
Полная версия:
Непокорные
Или вещь, от которой нужно избавиться.
Но нет, он не отошлет ее. Она ему не позволит. Она покинет Ортон-холл (тут она представила, как она пробирается сквозь джунгли, едва касаясь папоротников, кишащих жуками) только по собственному желанию. Не по желанию Отца, ни еще по чьей-либо воле.
Когда придет зима и посрывает листья с деревьев, она будет здесь, поклялась себе Вайолет, а не в каком-то ужасном пансионе. Она даже не будет выходить из дома, если это необходимая цена. Только до конца визита бестолкового родственника. Это покажет Отцу, как хорошо она способна себя вести.
6
Кейт
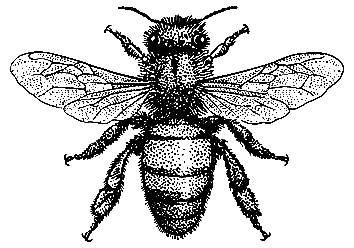
Кейт зарывается под одеяло – здесь клац-клац клюва о стекло не так слышно, и ждет, когда ворона перестанет атаковать окно. Кейт судорожно дышит: горло сдавливает от затхлого запаха постельного белья. В конце концов звук исчезает, и в своем воображении она слышит, как ворона, рассекая воздух крыльями, улетает прочь. Постепенно дыхание Кейт выравнивается, пульс замедляется.
Она высовывает голову и оглядывает комнату: потолок накренился, выкрашенные зеленым стены от старости выгнулись вовнутрь помещения, еще сократив пространство комнаты. Фотографии в рамках смотрят прямо на нее, как и рисунки: животные, насекомые, птицы. Одно из изображений выглядит особенно объемно, оно словно выпирает из листа: какая-то рыжевато-коричневая змея, поблескивающая в раме за стеклом. Дивясь ее золотистому мерцанию, Кейт присматривается и понимает, что это вовсе не змея, а сохранившаяся сколопендра: плотные сегменты влажно блестят, навсегда запечатанные стеклом.
Передернувшись, она читает витиеватые буквы на рамке; слова звучат странно, как заклинание.
«Scolopendra gigantea».
От густой тишины у нее кружится голова. Кейт практически тошнит от незнакомого чувства свободы. Оно столь же неуютно, как прикосновение грубой ткани к коже. К этому требуется привыкнуть.
За последние шесть лет – с тех пор как они с Саймоном познакомились – она впервые так долго не общается с ним. Тогда ей было двадцать три. Мысль о том далеком вечере отзывается болью в животе. Она ясно видит себя: в лондонском пабе с подругами, невозможно юная и застенчивая. Хотя сейчас ей непонятно, подходило ли слово «подруги» для девушек, с которыми она познакомилась в университете. Ей никак не удавалось подстроиться под тон беседы, никогда не удавалось вовремя пошутить или посмеяться. С самого детства она ощущала, будто существует сама в себе, отдельно от остальных людей.
В тот вечер это чувство обособленности было еще сильнее, потому что мама только что переехала в Канаду к новому мужу, оставив Кейт совсем одну. Конечно, Кейт ровно это и заслужила, но ей все равно было больно. Она помнит, как смотрела в стакан, наполненный тягучим кислым элем (она притворялась, что он ей нравится), пытаясь придумать оправдание, чтобы уйти пораньше.
Она подняла взгляд, собираясь отлучиться в туалет, и увидела его. Первое, чем она восхитилась, – его осанкой. Легкой кошачьей грацией, с которой он опирался на стойку, обозревая зал. Осознав, что он смотрит на нее, Кейт покраснела, одновременно удивившись и обрадовавшись. Когда их глаза встретились, глубокая первобытная часть ее существа словно распознала что-то в его медленной чувственной улыбке. Словно уже тогда знала, что произойдет дальше.
Адреналин ударяет в голову, и Кейт закрывает глаза.
Затем делает глубокий вдох и прислушивается. Если бы она была в их квартире, то услышала бы шум транспорта, смех выпивающих после работы возле паба на углу, рокот самолета над головой. Двойные стекла их модной высотки в Хокстоне не могли скрыть звуковой ландшафт Лондона – гул восьми миллионов жизней.
Но здесь нет ни машин, ни проносящихся над головой самолетов, ни отдаленного гудения соседского телевизора. Здесь есть только… тишина. Кейт и сама не знает, приятно ли ей или жутковато. Если напрячь слух, ей кажется, она различает журчание ручья вдалеке, шорох растительности, потревоженной местной ночной фауной. Гусеницы, горностаи, совы. Хотя, конечно, это невозможно. Она раздвигает выцветшие шторы, убеждаясь, что окно закрыто наглухо. У нее не настолько хороший слух. Она просто воображает все эти звуки, как в детстве.
– Хватит витать в облаках, – обычно говорили родители, когда она в очередной раз уходила в свои фантазии. – Спускайся и принимайся за домашние задания!
Но она никогда не слушалась.
Где бы они ни были, она всегда отвлекалась… на мелькнувшего розовым червячка в песочнице на детской площадке, на прыгающую по веткам белку в Хампстед-Хите. На птиц, свивших гнездо на карнизе их дома.
Если бы только она послушалась.
Когда это случилось, ей было девять. Обычным летним утром – уже парило от жары – отец провожал ее в школу. Они шли обычным маршрутом, по тенечку – дорожка вилась между пышными дубами, листья которых отливали светло-зеленым. Когда они подошли к пешеходному переходу, отец взял ее за руку, напоминая, что нужно посмотреть в обе стороны и особенно внимательно на слепую зону слева, где дорога резко изгибалась.
Они уже были на середине дороги, когда ее заставил обернуться зов птицы, затронув какую-то странную, сокровенную часть ее существа. Судя по хриплому карканью, это была ворона – Кейт уже научилась различать по голосам большинство птиц в саду у родителей, и вороны были ее любимыми птицами. В их хитрых голосах и темных светящихся глазах было что-то разумное, почти человеческое.
Повернувшись, Кейт вгляделась в кроны деревьев, выстроившихся вдоль дороги позади них. И – вот оно – бархатистый черный, ярко выделяющийся на фоне нежной зелени и голубизны июньского дня. Ворона, как она и подумала. Вырвав руку из отцовской руки, она побежала к птице, наблюдая, как та взлетает.
Дорогу пересекла тень. Послышался рев, а затем из-за угла появилось чудовище с красной чешуей и серебряными зубами – она притворялась, что не верит в таких, потому что уже большая, – и бросилось прямо на нее.
Отец подоспел как раз вовремя. Он вытолкнул ее на травянистую обочину. А затем раздался звук, похожий на звук разрывающейся бумаги, будто воздух разорвали пополам. А Кейт потрясенно смотрела, как чудовище впивается в отца.
Сначала медленно, затем все быстрее, он упал.
Позже, когда прибыли службы спасения: две машины «Скорой помощи» и полицейская машина – конвой смерти, – Кейт заметила на асфальте что-то золотое.
Это была брошь-пчелка, которую она всегда носила с собой в кармане. Должно быть, она выпала, когда отец оттолкнул ее, спасая от чудовища – чудовища, которое, теперь она это знала, было просто машиной, с облупившейся красной краской и ржавой решеткой радиатора. Кейт огляделась и увидела водителя: щуплый мужчина рыдал на заднем сиденье одной из машин «Скорой помощи».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В оригинале «the Weyward Sisters». Причем слово «Weyward» употребляется только в первом издании «Макбета» и всего один раз. Далее в оригинальном тексте эпитетом к сестрам стоит слово «weyard» (с неизвестным значением). В последующих изданиях оба написания заменены более современным словом «weird», и в классических переводах на русский язык «Weird sisters» мы видим как «вещие сестрички» или «вещие сестры», что соответствует роли этих сестер в книге. Однако мнения литературоведов и знатоков театра по поводу эпитета к трем сестрам расходятся. Есть мнение, что «Weyward Sisters» у Шекспира – вовсе не «Weird Sisters», а «Wayward Sisters». Да, конечно, они влияют на судьбы, да, они вещие, но они еще и «дикие, своенравные, следующие своим собственным правилам», «сбившиеся с пути [истинного]» (away ward), в конце концов. Так с XIV века называли непокорных женщин и детей, которые поступали вопреки воле мужчин и отцов соответственно. – Здесь и далее примечания переводчика.
2
Название деревни говорящее: Вороний ручей.
3
Для Кейт (и англоязычного читателя) странность заключается не только в значении слова, но и в его написании. В оригинале Кейт продолжает размышлять: «Знакомое слово со странным написанием, так что слово будто вывернулось». Для Кейт это слово звучит как знакомое: Wayward («непокорный», «сбившийся с пути»), но написано Weyward, и от этого героине становится немного не по себе.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

