
Полная версия:
Непокорные

Эмилия Харт
Непокорные
Emilia Hart
Weyward
Copyright © 2023 by Emilia Hart
© Олейник А., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Часть первая
Пролог
Альта

Десять дней они держали меня там. Десять дней, и лишь вонь собственного тела составляла мне компанию. Даже ни одна крыса не почтила меня своим присутствием. Не было ничего, что могло бы их привлечь; мне не приносили никакой пищи. Только эль.
Шаги. Затем бренчание металла о металл – это отодвинули затвор. Свет больно ударил по глазам. Долю секунды люди в дверном проеме мерцали, словно они не от мира сего и пришли забрать меня в мир иной.
Люди обвинителя.
Они пришли отвести меня на суд.
1
Кейт
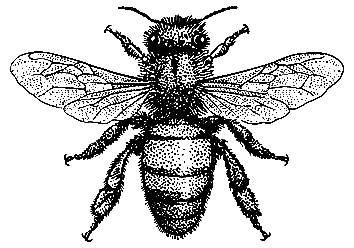
Кейт смотрит в зеркало, когда слышит этот звук.
Ключ, поворачивающийся в замке.
Дрожащими пальцами она торопливо поправляет макияж – черные ниточки туши, отпечатавшиеся на нижних веках.
В желтом свете хорошо видно жилку, пульсирующую на шее, под ожерельем, которое он преподнес ей на прошлую годовщину. Толстая серебряная цепочка холодит кожу. Когда он на работе, она снимает его.
Входная дверь со щелчком закрывается. Ботинки клацают по половицам. Вино с бульканьем наливается в бокал.
Паника трепещет в ней, будто птица. Она делает глубокий вдох, касается шрама на левой руке. В последний раз улыбается зеркалу в ванной. Нельзя позволить ему заметить, что что-то изменилось. Что что-то не так.
Саймон на кухне, облокотился на столешницу с бокалом вина в руке. Кровь стынет у нее в жилах. Длинный силуэт, подчеркнутый темным костюмом, линия его скул. Золото волос.
Он смотрит, как она идет к нему. На ней платье, которое – она знает это – ему нравится. Плотная ткань обтягивает бедра. Красное. Того же цвета, что нижнее белье. Кружевное, с маленькими красными бантиками. Как будто сама Кейт – что-то вроде содержимого упаковки, которую можно развернуть или разорвать.
Кейт подмечает детали. Галстука нет, три верхних пуговицы на рубашке расстегнуты, обнажая тонкие завитки. Белки глаз отсвечивают розовым. Он протягивает ей бокал вина, и в его дыхании она чувствует сладко-терпкий запах алкоголя. Ее спина и подмышки покрываются потом.
В бокале шардоне, ее любимое. Но сейчас его запах вызывает спазм в желудке, как будто запах гнили. Она прижимает бокал к губам, не делая глотка.
– Привет, милый, – говорит она высоким, отполированным специально для него, голосом. – Как прошел день?
Но слова застревают у нее в горле.
Он прищуривается. Несмотря на выпитое, он двигается быстро: его пальцы впиваются в нежную плоть выше локтя.
– Куда ты сегодня ходила?
Она всем своим существом хочет вырваться из его хватки, но знает, что лучше не сто́ит. Вместо этого она кладет руку ему на грудь.
– Никуда, – говорит она, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Я весь день была дома.
Она была осторожна: оставила айфон в квартире, пока ходила в аптеку, и брала с собой только наличные. Кейт улыбается и тянется, чтобы поцеловать его.
Его щека покрыта щетиной. С запахом алкоголя смешан еще какой-то запах – пьяняще-цветочный. Похоже на духи. Это уже не в первый раз. Внутри нее вспыхивает крошечная надежда. Если у него кто-то есть, это может быть ей на руку.
Но она просчиталась. Он отстраняется от нее и…
– Врешь.
Кейт едва слышит это слово – рука Саймона впечатывается в ее щеку и от вспыхнувшей боли все плывет. Все цвета в комнате размываются, смешавшись: золотистые половицы, белый кожаный диван, калейдоскоп лондонского пейзажа за окном.
Что-то грохочет вдалеке: это она выронила свой бокал.
Она хватается за столешницу, судорожно пытаясь вдохнуть и выдохнуть, в щеке пульсирует кровь. Саймон надевает пальто, берет с обеденного стола ключи.
– Никуда не выходи, – говорит он. – Если выйдешь, я узнаю.
Ботинки клацают по половицам. Дверь захлопывается. Она не двигается, пока не слышит скрип спускающегося лифта.
Он ушел.
На полу сверкают осколки разбитого бокала. В воздухе висит кислый запах вина.
Медный привкус во рту приводит ее в чувство. Губа, впечатанная в зубы силой его удара, кровоточит.
В ее мозгу что-то щелкает. «Если выйдешь, я узнаю».
Видимо, было недостаточно оставить дома телефон. У него есть другой способ. Другой способ следить за ней. Она припоминает, как разглядывал ее швейцар в вестибюле: неужели Саймон сунул ему пачку хрустящих купюр, чтобы он шпионил за ней? От этой мысли ее кровь застывает.
Если он обнаружит, куда она сегодня ходила и что делала, кто знает, что он еще может сделать. Установить камеры. Забрать у нее ключи.
И все ее планы сойдут на нет. Она никогда не выберется.
Стоп. Она уже вполне готова, ведь так?
Если выехать прямо сейчас, к утру можно уже добраться до туда. Дорога займет около семи часов. Она тщательно проложила маршрут на втором телефоне, про который он не знает. Водила пальцем по синей линии на экране, лентой вьющейся по стране. Она практически выучила его.
Да, она уйдет сейчас. Она должна уйти сейчас. Пока он не вернулся, пока у нее не сдали нервы.
Она достает «Моторолу» из тайника – конверта, приклеенного к спинке ее прикроватной тумбочки. Берет с верхней полки шкафа дорожную сумку, заполняет ее одеждой. Забирает из ванной комнаты свои туалетные принадлежности, коробку, которую сегодня спрятала в шкафчике.
Затем быстро меняет красное платье на джинсы и розовый топ. Дрожащими пальцами расстегивает ожерелье. Оставляет его свернутой петлей на кровати. Рядом с айфоном в золотом чехле: телефоном, за который платит Саймон, от которого он знает пароль. Который он может отследить.
Она роется в шкатулке с драгоценностями, стоящей на прикроватной тумбочке; пальцы нащупывают золотую брошь в форме пчелы – эта брошь у нее с детства. Она кладет ее в карман и ненадолго замирает, оглядывая комнату: кремовое одеяло и шторы того же тона, острые углы мебели в скандинавском стиле. Не может же быть, что это все, что ей нужно забрать? Когда-то у нее было много вещей – куча читаных-перечитаных книг, репродукции картин, кружки. Но здесь все принадлежит ему.
В лифте адреналин зашкаливает. Что, если он вернется и перехватит ее на выходе? Она нажимает кнопку гаража, но лифт рывком останавливается на первом этаже, двери со скрипом открываются. Сердце колотится. Швейцар стоит к ней спиной, разговаривая с другим жильцом. Едва дыша, Кейт вжимается в стенку лифта и выдыхает, только когда никто так и не заходит и двери со скрипом закрываются.
В гараже она отпирает «Хонду», купленную до того, как они встретились, и зарегистрированную на ее имя. Он ведь не сможет потребовать у полиции объявить ее в розыск, если она возьмет собственную машину? Кейт видела достаточно криминальных сериалов. «Уехала по своей воле», – скажут ему в полиции.
Воля – замечательное слово. От него возникает чувство полета.
Повернув ключ в замке зажигания, она забивает адрес двоюродной бабушки в «Гугл Мэпс». Несколько месяцев она повторяла эти слова в своей голове, будто мантру.
Коттедж Вейворд, Кроус-Бек[2]. Камбрия.
2
Вайолет

Вайолет ненавидела Грэма. Просто абсолютно не выносила его. Почему он целыми днями изучает что-то интересное, вроде точных наук и латыни, и еще про какого-то Пифагора, а ей остается втыкать иголку в холст и довольствоваться этим? И самое несправедливое, размышляла она, ощущая, как ноги зудят под шерстяной юбкой, что он делает все это в брюках.
Она сбежала по главной лестнице как можно тише, чтобы не нарваться на гнев Отца, который не одобрял физические нагрузки у женщин (и, ей часто казалось, саму Вайолет). Сдержалась, чтобы не захихикать от того, как позади пыхтит Грэм. Даже в своей неудобной одежде она легко обгоняет его.
А ведь только вчера вечером он разглагольствовал, что хочет пойти на войну! Скорее рак на горе свистнет. И вообще, ему всего пятнадцать – годом меньше, чем Вайолет, – так что он слишком молод. На самом деле это к лучшему. Почти все мужчины деревни ушли на войну, и половина из них погибла (по крайней мере, так подслушала Вайолет), включая дворецкого, лакея и обоих помощников садовника. В конце концов, Грэм – ее брат. Она бы не хотела, чтобы он умер. Предположительно.
– Сейчас же отдай! – прошипел Грэм.
Обернувшись, она увидела, что его круглое лицо раскраснелось от бега и злости. Он разозлился, потому что она украла его тетрадь по латыни и заявила, что он неверно просклонял все существительные женского рода.
– Не отдам, – прошипела в ответ Вайолет, прижимая тетрадь к груди. – Ты этого не заслуживаешь. Господи, ты вписал amor вместо arbor.
Преодолев остаток лестницы, она нахмурилась одному из портретов Отца, висящих в холле, затем повернула налево, промчалась по обитым деревянными панелями коридорам и ворвалась на кухню.
– Что за игры? – рявкнула миссис Киркби, державшая в одной руке тесак для разделки мяса, а в другой перламутровую тушку кролика. – Я могла остаться без пальца!
– Простите! – прокричала Вайолет, распахивая французские окна. Грэм продолжал пыхтеть у нее за спиной. Они пробежали через огород – их обдало пьянящими ароматами мяты и розмарина – и оказались в ее самом любимом месте на земле: в парке. Она обернулась и ухмыльнулась. Теперь, когда они были снаружи, у него не было ни единого шанса поймать ее, пока она сама не захочет быть пойманной. Он оглушительно чихнул. Он ужасно страдал от сенной лихорадки.
– Ой, – сказала она. – Тебе нужен носовой платок?
– Заткнись, – ответил он, потянувшись за тетрадью. Вайолет легко ускользнула. Грэм слегка замешкался, отдуваясь. День был особенно жарким: слой прозрачных облаков будто удерживал зной и сковывал воздух. У Вайолет по подмышкам стекали струйки пота, кожа под юбкой страшно зудела, но ее это больше не волновало.
Она добралась до своего особенного дерева – серебристого бука, которому, по словам садовника Динсдейла, было уже несколько сотен лет. Вайолет стояла к нему спиной, но могла слышать, как оно гудит жизнью: долгоносики заняты поиском прохладного древесного сока; на листьях покачиваются божьи коровки; стрекозы, мотыльки и зяблики порхают с ветки на ветку. Она протянула руку, и прямо на ладонь приземлилась стрекоза-красотка, сверкая крылышками в солнечном свете. Вайолет охватило золотистое тепло.
– Фу, – сказал Грэм, наконец догнав ее. – Как ты только терпишь, что эта тварь касается тебя? Дави ее!
– Я не собираюсь давить ее, Грэм, – ответила Вайолет. – Она имеет такое же право на существование, как ты или я. И ты только посмотри, какая она красивая! Крылышки будто хрустальные, тебе не кажется?
– Ты… не нормальная, – сказал Грэм, пятясь назад. – Ты одержима насекомыми. И Отец тоже думает, что ты не нормальная.
– Мне плевать, что думает Отец, – соврала Вайолет. – И тем более плевать, что думаешь ты, хотя, если судить по твоей тетради, тебе следует меньше думать о моей одержимости насекомыми, а больше – о латинских существительных.
Грэм бросился вперед, раздувая ноздри. Но когда он оказался в пяти шагах от нее, она швырнула в него тетрадь – немного сильнее, чем собиралась, – а сама взлетела по ветвям дерева.
Грэм выругался и, что-то бормоча себе под нос, повернул обратно к поместью.
Глядя на сердито удаляющегося Грэма, Вайолет почувствовала укол вины. Раньше между ними все было по-другому. Когда-то Грэм повсюду ходил за ней, будто привязанный. Она помнила, как он забирался в ее кровать в их детской, чтобы спрятаться от грозы или ночного кошмара, как он жался к ней так близко, что его дыхание гремело в ее ушах. Они столько веселились вместе: носились по окрестностям и возвращались с черными от грязи коленями, рассматривали крошечных серебряных рыбок в ручье или порхающую с ветки на ветку красногрудую малиновку.
До того ужасного летнего дня – ничем не отличавшегося от этого, с таким же медовым светом на холмах и деревьях. Вайолет помнила, как они валялись на траве под этим буком, вдыхая запахи чертополоха и одуванчиков. Ей было восемь, Грэму – только семь. Где-то неподалеку жужжали пчелы – они звали ее, манили к себе. Она подошла к дереву и обнаружила, что с одной из веток свисает улей, будто золотой самородок. Пчелы, мерцая, вились вокруг. Вайолет подобралась поближе, протянула руки, и они стали приземляться ей на ладони; она хихикнула, почувствовав, как их крошечные лапки щекочут ей кожу.
Обернувшись, она увидела, какое изумление излучает лицо Грэма, и рассмеялась.
– Можно мне тоже? – спросил он, распахнув доверчивые глаза.
Она не знала, что случится, твердила она позже, захлебываясь от рыданий, когда трость Отца взметнулась ей навстречу. Она не слышала его слов, не видела темной ярости на его лице. Она видела только плачущего Грэма, которого няня Меткалф спешно уводила в дом – его рука распухла от укусов. Трость Отца рассекла ей ладонь, и Вайолет чувствовала, это самое меньшее, что она заслужила.
После этого Отец отправил Грэма на обучение в пансион. Теперь Грэм бывал дома только на каникулах и становился все более незнакомым. В глубине души Вайолет знала, что не должна так издеваться над ним. Она делала это только потому, что так и не простила себя за тот день с пчелами, но и Грэма тоже не простила.
Он сделал ее другой.
Вайолет отмахнулась от воспоминаний и посмотрела на свои часы. Было только три часа. Уроки на сегодня закончились – вернее, ее гувернантка, мисс Пул, признала свое поражение. Надеясь, что ее не хватятся еще хотя бы час, Вайолет забралась повыше, наслаждаясь теплом шершавой коры под ладонями.
В углублении между ветками она заметила волосатый буковый орешек. Он идеально вписывался в ее коллекцию – на подоконнике в ее комнате уже скопились подобные сокровища: шелковистые останки кокона бабочки, золотистый завиток раковины улитки. Довольно улыбнувшись, она спрятала орешек в карман юбки и полезла выше.
Вскоре она забралась достаточно высоко, чтобы видеть весь Ортон-холл, который своими разросшимися каменными зданиями напоминал ей величественного паука, притаившегося на склоне холма. Еще чуть выше – и стало видно деревню Кроус-Бек по ту сторону холмов. Пейзаж был прекрасен. Но от вида этой красоты ей стало тоскливо. Как если бы она смотрела наружу из тюрьмы. Пусть зеленой, прекрасной, в которой поют птицы, и летают стрекозки, и светятся янтарные воды ручья, – но все же тюрьмы.
Ведь Вайолет никогда не покидала Ортон-холл. Она даже ни разу не побывала в Кроус-Бек.
– Но почему мне нельзя пойти? – раньше она задавала этот вопрос няне Меткалф каждый раз, когда та собиралась на воскресную прогулку с миссис Киркби.
– Ты же знаешь, – обычно бурчала няня Меткалф, и в ее глазах мелькала жалость, – твой отец запретил.
Но, как размышляла Вайолет, знать о запрете – не значит понимать его причины. Все детство она думала, что деревня полна опасностей – воображала карманников и головорезов, прячущихся за домами с соломенными крышами. (Это только добавляло деревне привлекательности.)
Но в прошлом году она пристала к Грэму, чтобы он описал ей деревню во всех подробностях.
– Чего ты такая взбудораженная? – скривился Грэм. – В этой деревне одна скукота, даже паба нет!
Порой Вайолет сомневалась, что Отец хочет защитить ее от деревни. Возможно, все было наоборот.
В любом случае, ее изоляция скоро должна была закончиться – в своем роде. Через два года, на ее восемнадцатилетие, Отец планировал устроить большой праздник в честь ее «выхода в свет». На празднике – он надеялся – она привлечет внимание какого-нибудь достойного молодого человека, возможно, будущего лорда, и сменит эту тюрьму на другую.
– Скоро ты встретишь блестящего джентльмена, который сразит тебя наповал, – частенько говаривала няня Меткалф.
Вайолет не хотела, чтобы ее сразили. Чего она действительно хотела – это повидать мир, как Отец в молодости. В библиотеке она обнаружила всевозможные книги и географические атласы – книги о Востоке, с непроходимыми джунглями и мотыльками размером с обеденную тарелку («жуткие твари», по словам Отца), и об Африке, где в песке, как драгоценные камни, сверкали скорпионы.
Да, однажды она покинет Ортон-холл и отправится путешествовать по миру – как ученый.
Биолог – мечтала она – или, может быть, энтомолог? В любом случае, она будет иметь дело с животными – по опыту это гораздо предпочтительнее, чем иметь дело с людьми. Няня Меткалф любила рассказывать, как ужасно напугала ее однажды маленькая Вайолет: как-то вечером няня зашла в детскую и – подумать только – обнаружила в кроватке Вайолет ласку!
– Я закричала как резаная, – рассказывала няня Меткалф, – но ты лежала как ни в чем не бывало, а ласка свернулась клубочком рядом с тобой, мурлыча, будто котенок.
Хорошо, что Отец так и не узнал об этом случае. По его мнению, место животным было на тарелке либо на стене. Единственным исключением был Сесил – его родезийский риджбек, страшенный зверь, нрав которого от побоев совершенно испортился со временем. Вайолет то и дело спасала всевозможных маленьких существ из его слюнявой пасти. В последний раз это был паук-скакунчик, который теперь жил под ее кроватью в шляпной коробке, на подстилке из старой нижней юбки. Она назвала его – или ее, трудно сказать – Золотце, за цвет полосок на лапках.
Няня Меткалф поклялась хранить тайну.
Позже, переодеваясь к ужину, Вайолет размышляла, что няня Меткалф вообще-то и ей говорит далеко не все. Надев мягкое льняное платье – противная шерстяная юбка осталась валяться на полу, – она повернулась к зеркалу. Глаза у нее были глубокие и темные, такие непохожие на водянисто-голубые у Отца и Грэма. Вайолет считала, что лицо у нее довольно странное, да еще и с некрасивой родинкой на лбу, но своими глазами она гордилась. Как и волосами, которые тоже были темными, с опаловым глянцем, будто перья ворон, что жили на окружавших поместье деревьях.
– Я похожа на свою маму? – спрашивала Вайолет, сколько себя помнила. Фотографий матери не было. Все, что от нее осталось у Вайолет, – старое ожерелье с овальным кулоном. На кулоне была выгравирована буква «В», и она спрашивала всех, кто мог быть в курсе, возможно ли, что маму тоже звали Вайолет? Или, может, Виктория или Вильгельмина? («Может быть, ее звали Вирджиния?» – спросила она однажды Отца, увидев это имя в газете, которую он читал. Он отправил недоумевающую Вайолет в спальню, оставив без ужина.)
Няня Меткалф тоже ничем не смогла ей помочь.
– Я почти и не помню твою маму, – говорила она. – Я сюда приехала совсем незадолго до ее смерти.
– Они познакомились на Празднике мая в 1925 году, – миссис Киркби с важным видом кивала головой. – Твоя мать была Королевой мая, такая она была красивая. Они влюбились друг в друга. Но больше не спрашивай об этом отца, а то получишь приличную взбучку.
Эти крохи информации едва ли могли удовлетворить Вайолет. Как и любому ребенку, ей хотелось знать намного больше – где поженились ее родители? Была ли у ее матери фата или венок невесты (она представляла белые звездочки боярышника, так подходящие к нежному кружевному платью)? И смахнул ли Отец слезу, когда обещал быть вместе, пока смерть не разлучит их?
В отсутствии реальных фактов, Вайолет цеплялась за этот образ, пока не убедила себя, что все именно так и было. Да, Отец отчаянно любил ее маму, и смерть разлучила их (у Вайолет брезжила мысль, что ее мама умерла, рожая Грэма). Вот почему ему было невыносимо говорить об этом.
Но время от времени этот образ в ее голове размывался – будто поверхность пруда подергивалась рябью.
Как-то вечером – тогда ей было двенадцать – она залезла в кладовую, чтобы поживиться хлебом с вареньем, и тут на кухню зашли няня Меткалф и миссис Киркби, а с ними недавно принятая на работу мисс Пул.
Вайолет услышала, как стулья проскребли по полу, как громко скрипнул древний кухонный стол, когда они уселись за него, затем последовали хлопок и звяканье – это миссис Киркби открыла бутылку хереса и разлила вино по стаканам. Вайолет застыла с недожеванным куском хлеба во рту.
– Ну и как тебе тут, дорогая? – спросила няня Меткалф у мисс Пул.
– Ну… Господь свидетель, я прилагаю все усилия, но с этим дитем до того трудно, – ответила мисс Пул. – Я полдня гоняюсь за ней по парку, ее одежда вся в пятнах от травы. И она… она…
Тут мисс Пул тихонько, но глубоко вздохнула:
– Она разговаривает с животными! Даже с насекомыми!
Повисла пауза.
– Наверное, вы думаете, что я несу чепуху, – сказала мисс Пул.
– Нет-нет, дорогая, – сказала миссис Киркби. – Мы и сами могли бы сказать тебе, что этот ребенок отличается от других. Она у нас… как ты говоришь, Рут?
– Со странностями, – сказала няня Меткалф.
– И это неудивительно, – продолжила миссис Киркби, – учитывая, какая у нее мать.
– Мать? – спросила мисс Пул. – Она ведь умерла?
– Да. Жуткое дело, – сказала няня Меткалф. – Я только прибыла сюда. Так что у меня не было возможности с ней по-настоящему познакомиться.
– Она была простая деревенская девушка, из Кроус-Бек, – сказала миссис Киркби. – Родители хозяина были бы в ярости… но они скончались за месяц до свадьбы. И его старший брат тоже. Несчастный случай с каретой. Так внезапно.
Мисс Пул резко выдохнула.
– И… и они все равно поженились? Леди Эйрс была… в положении?
Послышался нечленораздельный звук, затем миссис Киркби снова заговорила:
– Скажу только, что он был очень привязан к ней. Во всяком случае, сначала. Она была редкая красавица. И так похожа на молодую леди, не только внешне.
– Что вы имеете в виду?
Еще одна пауза.
– Ну, она была… как сказала Рут. Со странностями. Чуднáя.
3
Альта

Меня вывели из тюрьмы и повели через главную площадь деревни. Я попыталась вывернуться, спрятать лицо, но один из них сцепил мне руки за спиной и толкнул меня вперед. Волосы, распущенные и грязные, как у шлюхи, упали мне на лицо.
Я уставилась в землю, чтобы не встретиться взглядом с деревенскими. Я чувствовала их взгляды на своем теле, будто это были не взгляды, а руки. Мои щеки полыхали от стыда.
Желудок скрутило от запаха хлеба, и я поняла, что мы идем мимо пекарни. Я гадала, наблюдают ли за нами пекари, Динсдейлы. Как раз минувшей зимой я выходила их дочь после лихорадки. Я гадала, кто еще был свидетелем, кто еще был счастлив предоставить меня такой судьбе. Я гадала, была ли среди них Грейс, или она уже в Ланкастере.
Меня забросили в повозку так легко, будто я ничего не весила. Мул – бедное животное – на вид почти так же изголодался, как и я; его ребра выпирали из-под тусклой шерсти. Мне хотелось дотронуться до него, почувствовать пульсацию крови под кожей, но я не рискнула.
Мы отправились в путь, и один из сопровождающих дал мне глоток воды и краюху черствого хлеба. Я раскрошила его и сунула в рот, но почти сразу пришлось перегнуться через край телеги – меня стошнило. Тот, что был пониже ростом, рассмеялся, его зловонное дыхание обдало мое лицо. Я откинулась на спину и устроила голову так, чтобы можно было видеть проплывающую мимо местность.
Мы ехали по дороге вдоль ручья. Мои глаза все еще плохо видели, и ручей был лишь размытым пятном солнца и воды. Но я могла слышать его музыку и вдыхать его чистый, железистый запах.
Тот самый ручей, что поблескивает, изгибаясь, вокруг моего дома. Там моя мать показывала мне гольянов, выпрыгивающих из-под камушков, тугие бутоны дягиля, растущего по берегам.
Надо мной промелькнула тень, и мне показалось, что я слышу хлопанье крыльев. Этот звук напомнил мне о вороне моей матери. И о той ночи под дубом.
Воспоминание вонзилось в меня острым ножом.
Но прежде чем я погрузилась в темноту, мне подумалось, что я рада, что Дженнет Вейворд не дожила до сего дня и не видит свою дочь в таком положении.

