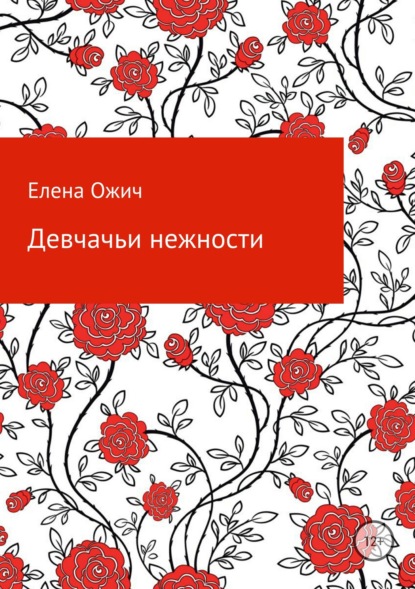 Полная версия
Полная версияДевчачьи нежности
Письма перестали приходить в 1991 году. Во всеобщей неразберихе и почта стала работать как попало. Письмо от Илианы из Софии раньше шло, по моим подсчетам, недели две. Почтовый ящик, который взламывали все чаще, отгибая дверцу, совсем перестал дарить пальцам волшебное ощущение от прикосновения к толстому конверту. Прощай, Илиана Павлова.
В 1992 году у меня открылся персональный счет потерь. Есть такой у каждого человека. Он открывается, конечно, у всех по-разному. Но его как бы нет, пока потери эти неосознаваемы – в силу малых лет, прежде всего.
Моя тетка пару лет назад переехала в деревню под Кисловодск и увезла с собой моих любимых двоюродных – пятилетнего Мишку и 14-летнюю Янку, самую закадычную мою подругу.
Осенью моего первого курса пришла телеграмма-похоронка. Денег было мало, и на похороны смогла поехать только мама. Она привезла оттуда колготки с крадущимися тиграми из люрекса и сказала, что это последний привет от Яны. История ее смерти была страшной: девчонка, опоздав на автобус, который возил детей в школу в соседнюю деревню, села в попутку. Тело нашли в какой-то горной речке дней через десять.
Я не плакала, потому что не могла поверить в рассказ мамы. И решила и дальше в него не верить. Я же не видела ни гроба, ни тела. И с тех пор я стараюсь не ходить на похороны. Так легче представить, что человек не умер, а просто куда-то далеко уехал – туда, где ему так хорошо, что нет даже времени надписать открытку.
Куда могла бы поехать Яна? Красивой девочке самое место в кино. Вспоминаю наше увлечение индийскими фильмами. Мы вместе ходили в кинотеатры, и я даже записывала в записную книжку все названия просмотренных фильмов. Янка бы точно не отказалась съездить в Болливуд. Как оторвешься от песен и плясок, цветов и смуглых героев, обязательно напиши. Только держись подальше от злого раджи.
Рус Попов был тоже красив, и мы с подружками строили хитроумные планы, как бы закадрить его хоть кому-нибудь из нас. Мы познакомились, поехав со студентами-историками на археологические раскопки. Студенты – на практику, а мы – вольнонаемными, так как других вариантов провести каникулы вместе где-нибудь за пределами города у нас не было. Потом, когда на экраны вышел фильм «Девятая рота», обнаружилось, что Рус похож на Джоконду. Только Джоконда погиб в Афгане, а Руслан в 1996 году, за несколько недель до окончания первой чеченской кампании. Куда бы мог поехать Рус? Похороны Руса закончились тем, что все напились и плакали под We are the Champions. В 90-е годы Рус и его приятели были самыми большими фанатами Queen, каких я знала. Особенно Русин друг Леха, который только ради них выучил английский язык и мог с ходу переводить любую песню. Леха жив и здоров. А вот Рус, будем считать, сейчас в Лондоне, на родине кумиров. И будь там осторожен, ради Бога, мало ли что.
Когда пришла идти пора в армию Женьке, моему двоюродному, все боялись, что его отправят в Афганистан. Но он вытянул счастливый билетик и был отправлен служить срочную в ЗГВ – Западную группу войск Вооруженных Сил СССР. Мало кому в то время доводилось просто побывать заграницей, а тут – служить в ГДР почти два года, везунчик! До армии брат работал на заводе и играл в заводском вокально-инструментальном ансамбле на гитаре. А я отдыхала летом в пионерском лагере, в клуб которого этот ВИА приезжал на танцы. Они играли, например, «Не повторяется такое никогда», а я всем говорила, что усатый парень в рубашке защитного цвета – это мой брат, правда-правда. Ему было 17, а мне 11. Из Германии он присылал открытки с котиками, пополняя мою коллекцию.
После армии он вернулся на завод. Но в 90-е и заводы стали работать как попало. И он снова пошел служить – в ОМОН. Там перебоев не было: одна поездка в «горячую точку» за другой. Две жены от него ушли, детей в этих браках не было. Ребенка третьей жены он успел усыновить, перед тем как погиб в январе 2000 года в Грозном.
Каждый, кто рассказывал мне о своей службе в Западной группе войск, не помянул то время ни одним плохим словом. Будем считать, Жень, что ты вернулся в ЗГВ и плетешь бесконечные аксельбанты на свой еще один дембельский китель. Не забывай писать хотя бы матери, она волнуется.
В детстве моим другом был Димка Т-ский. Его родители и мои были большими друзьями. Дядя Леша даже забирал мою маму и меня на такси из роддома, потому что отца не отпустили со смены. Наши родители шутя говорили, что мы поженимся. В восемь лет он утонул в Оби, когда отдыхал на даче. Я была на похоронах, но гроб пронесли так высоко, что я даже его не увидела. Пусть Димка остается в той стране, куда никому нет обратного хода – в детстве, так, что ли, ее называть? А у кого в детстве было время, чтобы по доброй воле подписывать кому-то открытки? Меня, к примеру, силком усаживали к столу, чтобы я подписала с десяток одинаковых карточек, которые нужно было разослать родственникам к какому-либо празднику. Они еще так особенно пахли типографской краской, и надо было разлиновать пустое место – получалось, как правило, вкривь и вкось. Так что не пиши, Димка, тебе сейчас некогда – ты все прыгаешь по бревнам в своей Рассказихе. Они скользкие, но ты-то ловкий парень, ни за что не упадешь в серую обскую воду. А нам-то и вовсе не нужны твои каракули на куске разрисованного картона – не приведи Господи с того света получать какие-либо весточки.
Я всегда говорю, что нас победят роботы. Но я знаю, за что этих роботов можно простить. Они скопируют и сохранят нас. Мы или кто-то там после всегда можем заглянуть во что-то такое электронное, чтобы найти там нас – вполне себе молодых, красивых, задорных товарищей. А главное, почти живых. Мы уже можем сохранить свое «сейчас» и заглянуть во «вчера», а в «тогда» – нет. Не было тогда ничего такого электронного. Только копии плохого качества на фотобумаге. Только открытки, только старые письма – что-то вполне осязаемое, но, разумеется, не равноценное.
Я. Заметка на полях
Ходить в библиотеку и читать книги – это, по мнению моей мамы, должен делать каждый уважающий себя человек примерно моего возраста. Хм. Ну, я и хожу. Но не всегда читаю. И поэтому когда мама спрашивает, о чем книга, понравилась ли мне она, я впадаю в легкое замешательство – сказать-то мне нечего. Нет, я, конечно, могла бы что-нибудь вдохновенное соврать. Но мы же понимаем, как легко тут засыпаться на мелочах. Потому что – черт ее побери!!! – мама тоже читает все эти книги. Ну, интересно, видите ли, ей!
– А что, – говорит мама, – взрослые книги – это же сколько нужно времени, чтобы прочитать! Дом, работа, Котька – совсем времени не остается. А детскую, даже вполне такую толстую, – за пару вечеров осилю!
Да, пара вечеров, а то и вовсе один. Я не знаю, как у нее это получается, потому что даже не очень толстую книгу я читаю неделю, а то и больше. А иногда просто сижу, раскрыв ее и положив телефон между страниц, и смотрю, кто чего запостил «ВКонтактике».
Впрочем, по поводу содержания книг мама меня с пристрастием не пытает. Она знает, что я не слишком-то разговорчивый (с ней, по крайней мере) человек, свое мнение люблю держать при себе. Но мое молчание мама истолковывает по-своему:
– Ну, надо же, какая короткая у человека память, – поражается мама, – ты правда ничего не помнишь?
Правда. Но не совсем. Да, я ничего не помню, потому что читала не книгу, а Леркину «стену». А с памятью у меня все в порядке.
А неделю назад я хотела почитать, что пишут в группе нашей параллели. И взяла с полки книжку «Вафельное сердце» Марии Парр. Кто такая, вообще не знаю. Что за сердце, понятия не имею. Эту книгу из библиотеки мама притащила. Да, иногда она ездит туда вместо меня. Чему я очень, очень, преочень рада – не трачу время, не тащусь, не волочу сумку с книгами.
Но выбранное мамой – это выбранное мамой, и поэтому я со спокойной совестью могу эти книги не читать: сами взяли, сами и читайте. Вот когда я выбираю, я читаю – фентези, фанфики, магия. А мама берет обычно какую-нибудь муть «про отношения».
Я достала телефон и открыла Марию Парр наугад. Книжка развалилась напополам, на какой-то там странице. Я уже открыла «ВКонтактик» и почти пристроила телефон в середине книжки, как увидела меленьким таким почерком карандашиком записочку на полях.
«Эй, люди! – написала какая-то девочка, – сижу сейчас и плачу. Моя мать орет на меня, я ей совсем не нужна, я как в пустоте живу. Орет непонятно за что. Как жить-то вообще…»
Я аж оторопела. Такого даже у нас «ВКонтактике» не пишут, ну то есть, все те, кого я там знаю, не пишут. Хотя вот там как раз и понятно, что делать. Там можно поставить лайк, написать коммент, отправить какой-нибудь грустный стикер – мол, как же я тебе понимаю. Но тут… Даже если я напишу ей ответ на полях книжки, она его не увидит – книжку-то уже прочитала и вернула в библиотеку, и вряд ли еще раз ее возьмет.
Я стала представлять, как можно найти этого человека и что ей сказать. Да и вообще попыталась представить, каково человеку, на которого орут непонятно за что, и который не нужен своей родной матери.
Нет, моя мама, конечно, тот еще перец, и орать может еще как! Но все ее крики, они… ну, не смертельные, скажем так. Что-что, а кричит она всегда по делу. Да и даже не кричит, а так, громко разговаривает. Блин, как вспомню эти разговоры про влияние хороших оценок на жизнь человека… Неприятно, но куда деваться. Ну, и потом, мама обязательно скажет: «Ну, прости, если я что-то не так сказала. Ты же на меня не обиделась?» И еще, скорее всего, обнимет и поцелует. Как тут на нее обидишься?
Нужна ли я ей? Я как-то даже об этом не задумывалась. Надо будет спросить при случае. Пока я решила, что нужна – не рожают же детей просто так, в этом должен быть какой-то определенный смысл.
Я тут же быстренько нафантазировала, для чего моей маме могут быть нужны дети:
а) помогать по хозяйству. Пока эта скучная тема касается только меня, но уверена, что Котьку ждет та же самая участь;
б) играть с ними, пока маленькие. Вот это как раз от меня уже отвалилось, пусть Котька отдувается. Может, родители так свое детство продлевают, не знаю. Не зря же говорят все время: вот у меня коньков раньше не было, вот мультиков столько раньше не было, того не было, сего не было… И поэтому рассекают теперь на роликах, как молодые.
в) воспитывать, вот где они отрываются по полной. Я бы не возражала, если бы мне построили маленький домик на необитаемом острове, провели бы интернет и отправляли туда через службу доставки еду и крем от ультрафиолета. И приезжали бы ко мне раз в год. Хорошо, два раза.
г) быть «царем горы», то есть главным в отдельной взятой семье и отдельно взятой квартире. Другими взрослыми родителям, как я поняла, помыкать не всегда удается, а вот своими детьми – еще как.
Короче, я закрыла эту Марию Парр. Я не знаю, что мне делать с чужими переживаниями. Крепись, чувак, сказала бы я этому человеку. Что тут еще скажешь. Если бы это была, скажем, Лерка, я бы ее, не знаю, выслушала, пожалела бы, купила бы ей чупик.
И я уже почти забыла про этот крик души на полях. Но «Вафельное сердце» взяла почитать мама.
– Ты видела? Ты видела? – подскочила она ко мне с книжкой, открытой на той самой странице. Сильно была взволнована.
Ну, сказала я ей взглядом, видела.
– Как ты думаешь, можно ли найти эту девочку? – спросила мама.
Зачем, подумала я. Пожала плечами. Та девочка, наверное, поплакала да и забыла. Лерка бы поплакала и забыла. У Лерки, в общем-то, тоже с мамой все сложно: Лерка тройку боится получить. А я так и двойку не опасаюсь: а что, тоже ведь оценка. Разговоры «за жизнь и за оценки» я вполне могу пережить, тем более что ведутся они примерно так:
– Вот пекарь, прекрасная профессия, – машет руками мама. – Но ее любить надо! Ночные смены, высокие температуры, тяжелые емкости с тестом… Чтобы печь людям вкусный хлеб, это дело любить надо! Или медсестра. Отличная профессия! Но там уколы в чужие попы, клизмы… Это ж как людей любить надо, чтобы быть медсестрой! Вот кем ты будешь, когда вырастешь?
Да рано мне еще об этом думать. Когда вырасту, тогда и подумаю. Классе в десятом хотя бы.
– Да тебе все равно, что ли? – не унимается мама. – Кем ты станешь лет в двадцать?
Я стану мангакой и видеоблогером, но вам пока знать об этом не обязательно.
– Ну, раз тебе все равно, – голос у мамы становится наигранно-зловещим, – то мы с папой приколемся…
Што? Приколятся они…
– …и отдадим тебя в колледж учиться на механизатора!!! У кого-то дочь станет финансистом или там визажистом, а у нас – трактористом!!!!
Охренеть.
– Ну, тебе же все равно… – говорит мама. – Куда мы тебя затолкаем.
Нет. Нетнетнетнет. Фотограф. Лучше фотограф. Там и до видеоблогера недалеко.
Шутка мамина, конечно, дурацкая. Но я и не такое переживу. Главное, что меня не называют тупой и безмозглой, и за двойки на меня не орут, а только говорят, что «в их возрасте получать двойки было западло». Что за слова, а еще в институтах работают.
Через несколько дней мама понеслась в библиотеку и вернулась немного расстроенная.
– Я спросила у библиотекаря, можно ли найти эту девочку. Но мне сказали, что нет – в этой книге нет листка книговыдачи. Если бы там был записан номер читательского билета, ее можно было бы найти.
– Знаешь, – продолжила мама, – когда я была в твоем возрасте, я очень часто брала книги в библиотеке…
Тут я тихонько вздохнула и только из вежливости не закатила глаза. Опять начинается история из серии «Вот я в твоем детстве…» Про их детство я уже тут рассказывала – те еще фрукты были, эти родители: один подрывник и прыгун с холодильника, а другая – певица-в-ванной, борщ-с-прихватками и человек-ватник.
– Когда я брала книги в библиотеке, я первым делом пролистывала их на предмет привета от друга, – не унималась мама. – Ну, это я так называла. Кто-нибудь забывал в книжке фантик, который использовал в качестве закладки, или листок с самостоятельной, или писал «Привет» на форзаце. Или гербарий засушенный попадался. И мне казалось, что кто-то передал мне привет, оставил это в книге специально для меня. Мне приятно было думать, что в нашем городе есть человек, который читает такие же книги, что и я, ходит в одну и ту же библиотеку, и, может быть, мы даже с ним там встречались и вполне можем познакомиться, стать подружками или друзьями. Это был такой намек на дружбу, всегда хотела иметь много друзей.
Как все сложно было-то у них, подумала я. Мне иногда кажется, что людей вокруг слишком много, и большинство из них в друзья вряд ли годятся. Чем и хороши наши социальные сети, так это тем, что можно быть человеком-невидимкой: смотреть, как все там тусуются, наблюдать, как за насекомыми. Они сами всю свою жизнь напоказ вываливают, тут даже усилий не требуется. Я не хочу: мое – это мое. Захочу – покажу. Когда-нибудь. Если будет что. Даже фотика нормального нет, телефон не айфон. Инет в телефон не разрешают, только из дома по вайфаю.
– Как такое может быть, – продолжала мама, – что она совсем не нужна своей матери?
Я уже почти решила задать маме свой вопрос, зачем вообще нужны дети и я ей зачем, в частности. Но подумала и решила помолчать, потому что мама была в своем любимом состоянии «как хочется поговорить с любимой старшей дочуркой» и вот-вот сама на него ответит.
– Запомни, Котька, – сказала мама, – дети всегда – ВСЕГДА! – нужны своим мамам. Дети никогда не рождаются просто так. В их появлении всегда есть смысл. И этот смысл, ого-го какой смысл – он не виден глазом и поэтому не понимаем головой.
Вот интересно-то. Постою, послушаю.
– Этот смысл, Котька, ощущается на клеточном уровне. Ну, то есть, так должно быть, это правильное направление, этот смысл – он больше, чем сам человек.
То есть это не помощь по хозяйству? Не воспитание? Не «царь горы»: мы, старшие, в доме главные, а вы, дети, внемлите и подчиняйтесь, и выпрашивайте ваши жалкие карманные денежки, которые еще заслужить надо?
– В общем, смысл в том, что есть человек с продолжением и человек без продолжения. Тебе какой вариант больше нравится?
– Эммм…, с продолжением звучит как-то обнадеживающе, – неуверенно промычала я. Если говорить про кино или там про книгу, или про игру, то с продолжением определенно лучше.
– Вот! – воскликнула мама. – И это продолжение есть другой человек – новый, хороший, дельный, замечательный человек.
– А если не дельный? – спросила я.
– Любой человек изначально дельный, – сказала мама, – а дальше уж он сам решает, каким ему быть. Как говорит одна моя знакомая: «Не надо лезть в заводские настройки человека, просто нужно кормить, поить и не мешать».
Так что ж, ты, мама, лезешь в мои заводские настройки, хотела спросить я.
– Мне кажется, я не очень-то лезу в твои заводские настройки, – сказала мама.
Да что ты будешь с ней делать. Если подумать, и впрямь – лезет, но не очень-то. По сравнению.
UPD. А фотик мне купили! На день рождение и за хорошие оценки, правда. Но он реально крутой. Не мыльница. И фотошколу, сказали, летом оплатят.
Она. Петушки
Однажды, несколько лет назад, на углу проспекта Ленина и еще какой-то улицы стоял мужичок и продавал петушков на палочке. Так захотелось.
Сто лет не было в этом городе янтарных петушков. Мужичок, где ты взял это богатство? Почем продашь? Так захотелось взять в руку длинную струганную палочку и отхрумкать этому карамельному франту его пышный, дразнящий хвост. Но не случилось и не сбылось. «Еще неизвестно, где он делал эти леденцы, и какими руками!!! Где его справки? Где белый халат технолога пищевого производства???» – загундел внутри взрослый и осторожный человек. Кто бы думал об этом в детстве? Да никто.
К хлебному магазину теплыми летними вечерами выходили бабки-петушатницы, которые на деревянных ящиках, принесенных из соседнего овощного магазина, раскладывали свои янтарные сокровища.
– Девочки, берите леденцы! – протягивали нам бабки петушков, завернутых в лоскуты того особого шуршащего целлофана, в который обычно упаковывали гвоздики.
В такие дни мы шли в хлебный магазин с одной мыслью: как бы и хлеба купить, и чтобы сдача осталась. Целых пятнадцать копеечек. Самым простым способ сэкономить была игра в «разобрали». Ой, мам, ты белого просила, а его уже не было. Серый был и черный. И рогаликов по четырнадцать не было, а только по пять. Сдача где? Какая сдача? Ах, сдача… Да мы там с девчонками петушков купили. И ничего они не грязные. И руки у бабок не грязные, я смотрела.
Что в них было такого? Никакого особенного вкуса, никакого особенного счастья. Немного солнца, если посмотреть на божий свет сквозь сахар, застывший янтарной птичкой. Немного забавно, если прижать его языком к небу, и он прилипнет к зубам ненадолго. Немного свободы и протеста – мама не разрешает и денег не дает, а я все равно куплю.
Немного фантазии и эксперимента – чтобы самому из сахарного песка, сковородки и спичек приготовить нечто подобное. Только у бабок леденцы получались медово-прозрачными, а у нас – коричнево-мутными с жженым привкусом. И формочек не было. Ломали застывший на сковороде коричневый блин и клали в рот эти острые, обдирающие язык и, по-честному, не очень-то и вкусные кусочки.
– У меня есть форма, – сказала однажды Римка. – Мама купила в магазине «Тысяча мелочей».
Я, конечно, кинулась к своей маме и почти упала перед ней на колени, упрашивая, чтобы и она немедленно отправилась в «Тысячу мелочей» за формой для производства леденцов на палочке – «она еще такая тяжеленькая, железная, из двух частей. И дырочки там, чтобы палочки вставлять. Ну, мам. Ну, пожалуйста…»
– Что за глупости, – сказала мама. – Некогда мне такой ерундой заниматься. Если так сильно надо, езжай сама.
И дала мне деньги на автобус и на форму. Я уже одна ездила в детскую библиотеку имени Крупской, поэтому дальние путешествия на автобусе ни меня, ни моих родителей не пугали.
Что за магазин «Тысяча мелочей»? Наверное, это почти как «Тысяча и одна ночь», размышляла я, сидя на горячем клеенчатом сиденье в автобусе. Это, должно быть, чудесное место, раз там продают формочки для леденцов, решила я. Подобный трепет у нас вызывали только магазины «Вторсырье», где можно было в обмен на старые газеты получить шарик на резинке, набитый опилками, киоски «Союзпечать» с открытками и «Уцененные товары», где можно было задешево купить тушь-плевалку и колечко со стеклянным камушком.
«Тысяча мелочей» оказалась обычным хозмагом, заставленным ведрами, тазами, жестяными рукомойниками, граблями. Его прилавки манили хозяйственным мылом, дверными замками, гвоздями, скобами и лампочками. Эй, а где же шторы из бусин? Таинственный полумрак? Где хотя бы намек на сказочные богатства?
– Нету, – развела тяжелыми ладонями продавщица. – Кончились.
Я ехала в автобусе обратно и всю дорогу кусала губу, чтобы не разреветься от досады.
– Пойдем ко мне, – сказала как-то Римка. – Мама сахар вчера купила.
Мы взяли сковородку, поставили на плиту, высыпали в нее сахар.
– Форму надо смазать маслом, – сказала Римка, и мы достали из холодильника сливочное масло и стали ножом отковыривать от него кусочки и размазывать его пальцами по формочке. В ней, кстати, можно было за один раз приготовить только четыре петушка, точнее, рыбки.
Сахар на сковородке сверху еще высился белой сыпучей горкой, а снизу уже расплавился и начал подгорать.
– Помешаем, – сказала Римка, убавила огонь и начала возить по сковородке ложкой.
Сахар скоро весь расплавился, но подожженный нижний слой испортил всю картину. Если бы мы наперед знали, в какую неприятную субстанцию может превратиться такая наивкуснейшая вещь, как сахар, не стали бы и начинать.
– Для первого раза сойдет, – решила Римка. – Первый блин комом…
…а первая котлета – подметкой.
В четвертом классе на одном из уроков труда мы учились жарить котлеты. Каждая принесет, сказала учительница, мясной фарш, сковородку и жир для жарки. Мама удивленно подняла брови, особенно когда я попросила фарш:
– И много надо? – спросила мама.
– Ну, чтоб на всех хватило… – как-то неуверенно ответила я.
– Ага, конечно! – отрезала мама и выдала мне кусок говяжьего фарша размером с кулак, завернутый в пакет из-под молока.
На уроке мы, наряженные в разноцветные фартуки и косынки, выстроились у рабочих столов, разложив свои разнокалиберные сковородки и мешочки с фаршем. Учительница оценила наши натюрморты:
– Я вижу, все принесли инвентарь и продукты. Молодцы, – и помахала листком в воздухе. – Это рецепт. Потом все перепишете в свои тетради, я проверю. Сейчас мне надо ненадолго отлучиться в учительскую. А вы начинайте жарить. И не шумите, – и ушла, цокая высоченными каблуками.
На последующих уроках мы переводили выкройки, кроили ткань, шили ночнушки и халаты. Еду, которую мы должны были приготовить на трудах, приносили из дома. Пекли торты, а потом дружно их съедали на уроке.
И вот мы начали жарить свои первые в жизни котлеты, кто как себе это представлял. Наверное, это были самые натуральные котлеты в мире – в них не было ни хлеба, ни лука, ни яйца, ни даже панировочных сухарей. В моих, наверное, не было даже соли. Вдобавок они прилипали к сковородкам и чадили. Наша трудовица в конце урока прошла вдоль строя тарелок с котлетами, но пробовать не рискнула.
– Я и так вижу, что все вы умеете жарить котлеты, – и поставила нам в журнал «пятерки».
Мы сжевали свои обугленные шарики и пошли на другой предмет, зарабатывать другие «пятерки».
Когда белая горка на сковородке превратилась в коричневую лужу, мы начали заливать сахарную жижу в форму. Она почему-то вся вытекла с обратной стороны и тут же начала застывать на столе слюдяным озерком, от которого к сковороде, ложке, формочке и нашим рукам тянулись хрупкие золотистые нити. Мы решили облизывать стол по очереди. В следующий раз, решили мы, что-нибудь придумаем, тарелку подставим, шпагатиком форму стянем или еще чего. Потом я пошла домой, а Римка осталась отмывать сковородку.
За опыты с дефицитным сахаром нам попало крепко. Римкина мама встретила во дворе мою маму и рассказала, как бездумно растратили мы ценный продукт:
– Как раз клубника скоро пойдет на даче! – махала руками Татьяна Алексеевна, я с другого конца двора видела. – Я и решила потихоньку сахар подкупать! Позавчера купила, вчера, гляжу, нет! Я – искать. Смотрю, лежит сковородка, вся этим сахаром горелым уделанная. И ваша-то, ваша тоже там участвовала!
Моей маме пришлось отдать Татьяне Алексеевне полкило сахара, а мне постоять один вечерок в углу. Когда мы были маленькими, совсем еще не сведущими в кулинарии и не знавшими цены ни продуктам, ни другим вещам, сахар и кое-какая другая провизия продавалась по кило в одни руки. Или по два кило, когда как. Ну, то есть, надо тебе пять кило сахару на варенье – ходи в магазин пять дней подряд, если его, конечно, раньше не раскупят. И мы во дворе одну штуку придумали – ходить за продуктами, которые по норме отпускали, большими компаниями. Подговоришь во дворе приятелей, придете в магазин компанией человек в пять, будто бы братья-сестры. Продавец скажет: «Что-то как сахар привезут, так все многодетные», но сахар отпустит. Родители вечером, когда с работы придут, удивляются: как это вам столько сахару отвалили? А потом ввели талоны на продукты, и фокусы с липовыми братьями-сестрами уже не проходили.

