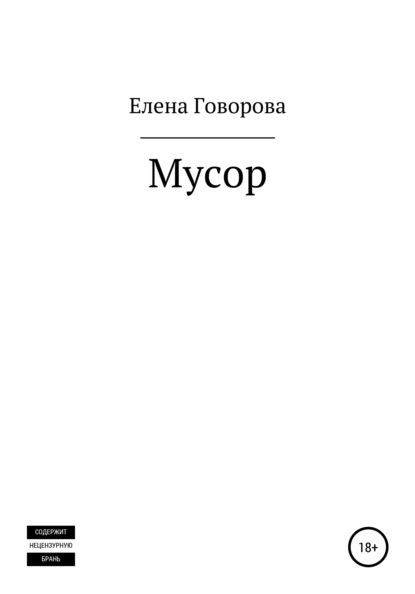
Полная версия:
Мусор
– Растолстел, – как будто против воли вырвалось у Саши неловкое замечание. Но Диме понравилось: это был знакомый ему тон взаимных издёвок, ничего не значащих и многое замещающих. Он с облегчением бросил:
– Ты на себя посмотри, дрищ, – и спокойно повернул на кухню.
Немного разочарованные женщины засмеялись и проследовали, подталкивая в спину Сашу, туда же. В этот момент дверь из большой комнаты отворилась, и оттуда вышел отец. Вся компания снова замерла.
Вот кто не менялся совершенно. Сухой, высокий, давным-давно седой, с горбатым, в детстве ломанным носом, всегда с вальяжной походкой и насмешливым взглядом. Он источал кислый запах перегара, смешанный с горьким табаком, носил тельняшку, из-под которой торчали завитки седых волос на груди, и синие тренировочные штаны с оттянутыми буграми втрое шире колен. Он вышел, зевая, так, словно ничего и не случилось. Обыденно кивнул Саше, даже ничего не сказав, как будто тот на протяжении всех этих лет ежевечерне попадался ему вот так на кухне, свернул в прихожую и взял на зеркальной полке пачку сигарет, с которой молча заперся в туалете – оттуда скоро донёсся едкий запах дешёвых папирос.
Тётя Клава пробормотала: «Козёл старый, не различил, что ли, тебя от Димки? Совсем допился!». Мама прошипела:
– Да понял он всё. Всегда такой, а то не знаешь!
Глава 4
К вечеру Саша ещё не смог переодеться с дороги.
В доме было всего две комнаты. Одна из них, большая, с двумя окнами, заменяла собой и гостиную, и спальню, и детскую. Здесь стоял полосатый диван с горбатой спинкой и два таких же кресла, которые они с большим возбуждением и гордостью всей семьёй покупали при ещё живой бабушке на рынке, когда Саше было лет двенадцать. Теперь они значительно выцвели, осели, но всё ещё использовались: на разложенном, собиравшемся только по праздникам или перед крайне редкими приходами значительных гостей (ни Клава, ни Саша к таким не относились) диване спали отец с матерью; два раскладных кресла принадлежали сыновьям. Одно из них теперь пустовало, было сложено, и в нём можно было посидеть, посмотреть ещё один телевизор, чуть новее кухонного. На стене между двух окон, завешанных кружевным тюлем и тоже уставленных зелёными зарослями в майонезных баночках в два ряда, висели старые часы. Все остальные предметы мебели: большой комод с выставкой фигурок-гжель, изображавших двенадцать знаков восточного гороскопа, несколькими книгами, школьными фотографиями детей в костюмах мушкетёров и гусаров, просунутыми под стекло, тумба под телевизор, письменный стол и журнальный столик, покрытый самовязанной кружевной салфеткой, аналогичной ещё одной, свешивавшейся немного на экран телевизора, и с фарфоровой статуэткой в виде двух переплетённых шеями в порыве нежности голубей, – входили в рыжий лакированный чехословацкий гарнитур, приобретённый еще до Сашиного рождения, по большому блату. Мать часто и подробно, с задорным смехом рассказывала, как ездила получать его в Москву на ГАЗели с соседом, как они заблудились и вынуждены были ночевать у незнакомых людей на их даче в Подмосковье, а отец потом ревновал несколько лет, думая, что у неё был роман. Над диваном висел большой ковёр, изображавший оленят на водопое, а на полу лежал гораздо более линялый, с тускло-бурыми, местами совершенно вытершимися, цветами на чёрном фоне. В этой комнате почти всё время, если не удавалось найти компанию для выпивки, в полумраке отец смотрел идущие подряд передачи, дремал и прерывался, чтобы сходить покурить в туалете. Этим они занимались поочерёдно с Димой, который брал беспрепятственно отцовские папиросы, а потом ложился на своё кресло, стоявшее прямо возле двери и перегораживавшее почти весь проход, так что попасть в комнату можно было только бочком, миновав ноги в черных, резко пахнущих и всегда заштопанных на больших пальцах носках, и задумчиво копался в своем телефоне.
Другая комната была проходной, в трёх её стенах располагались дверные проёмы: на кухню, в прихожую и в большую комнату, торжественно называвшуюся залом, – а в четвёртой был заложен проход во вторую половину дома, которую занимала Клава. В Сашином детстве здесь спала бабушка – мамина мама, настоящая хозяйка этого дома. Всё осталось от неё: кровать у единственной бездверной стены, покрытая ажурным тюлем, с горой аккуратно вышитых самой бабушкой маленьких подушечек, убывавших, по мере возвышения, в размере, и увенчанных самой мизерной, больше подходившей на роль игольницы, множество разноразмерных, жутко поблёскивавших в темноте икон над ней, старое кресло под золотистой шторой вместо покрывала, вторая такая же штора, висевшая на крючках на верёвочке под потолком и отделявшая спальное место от прохода, два больших, друг против друга, гардероба по углам, с массивными замочными скважинами, ключи от которых давно были утеряны, сверху заваленные саквояжами, обрезками труб и рулонами обоев, много раз за жизнь приобретавшимися взамен вздувшихся пузырями болотного цвета на стенах, но ни разу не переклеенными. Здесь теперь спала Ангелина, однако ничто в доме не напоминало о её присутствии, кроме переброшенной через спинку кресла ярко-розовой футболки, которую в какой-то момент, проходя мимо, мать стыдливо схватила, свернула на ходу и бросила в шкаф.
Тётя Клава всё не уходила. Она сидела на кухонном диванчике, перед снова болтавшем, разве что немного тише, телевизором, и громко рассуждала о последних слышанных в городе новостях, словно сама с собой, ни на кого не обращая внимания. Мать стояла около, что-то мешая в кастрюле, беспрестанно тяжело охала, но при этом не казалась уставшей от бессмысленного разговора, а довольно заинтересованно отвечала на реплики сестры. Дима не знал, чем себя занять, и раскачивался в такт голосу диктора на неудобном табурете, читая поднятый со стоявшей здесь же старой швейной машинки последний номер «Вестника Боголюбова», но тот был настолько скучным, что брата то и дело отвлекало происходящее на экране. Иногда мама подходила с большой кастрюлей в руках и просила набрать воды – раковины на кухне не было, и приходилось выходить в прихожую, дверь откуда вела в санузел: со старым квадратным кафелем цвета охры на стенах, пожелтевшей ванной, длинным вертящимся во все стороны краном, унитазом, у которого никогда не было сливного бачка, и пожелтевшей бочкой – полуавтоматической стиральной машинкой, ещё одним наследием советских времен.
Уже поздним вечером они, наконец, сели за стол. Клава порывалась уйти к себе, но мама упросила её остаться, и та с облегчением поудобнее устроилась на диване. На ужин было картофельное пюре, солёные помидоры, за которыми Дима успел слазить в погреб, поставленные на вынесенный в середину кухни стол прямо в двух трёхлитровых банках, солёные огурцы, тоже в банке, тонко порезанный чёрный хлеб и мутная бутылка самогона, который варила на две семьи и даже иногда немного для сторонних заказчиков предприимчивая тётя Клава.
Телевизор не выключали никогда – это Саша помнил ещё по своим детским дням рождения, когда экран был нецветным, а мультфильмы показывали лишь по утрам воскресенья. Тряпки с верёвки так никто и не снял, и они висели прямо над столом, как праздничная гирлянда разноцветных флажков. Отец пришёл из комнаты, мрачный и молчаливый, – впрочем, просветлел, как только увидел на столе бутылку.
– Что смотришь? – сварливо оборвала его тётя Клава. – Не напился ещё? Полдня сегодня отходил!
– Клава, – мягко остановила её мать, расставлявшая на столе тарелки из парадного сервиза, с уже побледневшими от старости крупными розами. – Ну ведь сын приехал, четыре года не виделись!
– Ну ладно, – быстро согласилась тётка. – Но тогда и мне наливай! Ну-ка, Сашка, не сиди, поухаживай за тётенькой! – И она, давно простившая племяннику все обиды, громко захохотала. – Машка, стаканы-то дай нам!
– Дам бокалы! – так же облегчённо рассмеялась в ответ мама, суетливо роясь в глубинах своих кухонных шкафов, очевидно довольная тем, что ссоры не случилось. – Повод такой торжественный!
И она, лукаво подмигнув, начала выставлять перед собравшимися рюмки в виде сапожек на каблучках.
Дима, придвинувшись ближе к столу, теперь листал что-то в своем дешёвеньком китайском смартфоне. Саша начал разливать самогон из бутылки, под одобрительные, шутливые комментарии Клавы: «до краёв, не боись», «рука не дрогнет?». Из пяти округлых стопок он наполнил четыре, смущённо добавив, что сам он, наверное, не будет.
– О, вырастил на свою голову, – сказал отец и хрипло засмеялся, как будто закашлялся, заглушив что-то, что пыталась сказать тётка. Мама недовольно спросила:
– А кому тогда налил столько? Димка вообще не пьёт, я тоже не буду, я никогда не пью, будто не знаешь, – и обиженно пожала плечами.
Дима, услышав свое имя, наконец отложил телефон и придвинул к себе посуду. Саша попытался оправдаться тем, что как-то забыл, и в ответ услышал:
– А потому что приезжаешь слишком часто!
Вот эти слова и прозвучали. Настроение у мамы часто портилось непредсказуемо быстро, что было знакомо ему с самых ранних лет: от задорного и уютного смеха, тихой ласки она переходила вдруг к окрикам, обиженному молчанию или раздражённым отмашкам. Маленьким, он научился подстраиваться под этот загадочный ритм, но, начав жить отдельно, постоянно забывал и, столкнувшись, удивлялся, мучился, что он сделал не так и как это скорее исправить. Сейчас он собирался вылить лишнее содержимое обратно в бутылку, однако отец снисходительно остановил его:
– Да не морочься, выпьется!
– Ага, выпьется, не сомневайся, – подхватила Клава, двигая одну рюмку поближе к себе. – Как хоть тебе, алкашу, сыновей таких удалось вырастить? Смотри: оба не пьют! Это всё в Машку, конечно, не в тебя.
Мама снова заулыбалась.
– Да уж, мальчишки хорошими получились! – она с нежностью посмотрела на обоих сыновей, гордо приосанилась и погладила по макушке сидевшего ближе к ней Диму. – Есть, правда, у нас одна оторва, которая им совсем не чета, – снова нахмурилась.
– А эта в меня! – и Клава громогласно расхохоталась под одобрительный смех мамы, отца и Димы.
– Да ладно, мы тоже в её возрасте гуляли, – попытался выгородить сестру Саша, догадавшись, что речь идёт о ней, и повернулся за поддержкой к младшему брату.
– Мы есть будем или нет? – напряжённо вглядывался тот в кастрюлю с дымящимся картофелем; зацепил пальцами вздувшийся огурец прямо из банки и тут же с сочным хрустом откусил ровно половину.
– Ой, молчи! – мать замахала на них руками, не давая теме сойти на нет. – Век бы не помнить, чего я с вами натерпелась! Но вы хоть мужики, вам положено, а она-то… Давайте, правда, есть лучше. Накладывай, Митюш, сынок, сейчас я большую ложку дам.
Она принесла ложку и поставила на стол зелёный кувшин с «компотом» – наскоро разведённым в кипятке малиновым вареньем.
Дальше слышен был лишь стук ложек о тарелки, чавканье и голос ведущего вечерних новостей. Ели они всегда в молчании, не считая телевизора, и Саша долго потом не мог привыкнуть, что застолье может проходить иначе; чтобы заговорить, ждал, пока наестся сам и отодвинут тарелки другие. Сейчас ему хотелось как-то разбавить тишину, хотя бы прокомментировать сюжеты телепередачи, но он смотрел на напряжённые, деловитые лица собравшихся за столом и понимал, что им это вряд ли понравится.
Наконец, когда даже добавка картофельного пюре была поделена между присутствовавшими, Клава, бойко опрокинув в себя ещё одну рюмку, блаженно откинулась на спинку дивана – тот издал испуганное «Ой» всеми своими дряхлыми пружинами, – и, прикрыв глаза, счастливо выдохнула: «Ох, Машка, золотой ты человек! Опять накормила досыта!». Мама снова приосанилась, для вида смутилась, но выглядела абсолютно, заслуженно польщённой: «Ничего-ничего, на здоровье! Повод-то какой у нас!», – и горделиво посмотрела на старшего сына. Отец с Димой опять собрались курить. В кухне, где уже кипятился чайник, стало невыносимо душно, и Саша сказал, что пойдёт с ними.
– Снова закурил, что ли? – взволнованно обернулась от плиты мать и стала с прищуром вглядываться в него, как будто надеясь разглядеть признаки курения на его лице.
– Да нет, просто подышу…
– Подышит! Чем подышишь, табаком? – открыла глаза тётка, будто бы начинавшая дремать в своей уютной диванной вмятине. А мать благосклонно улыбнулась:
– Ну, иди-иди. А закуришь – я тебе! – и она шутливо погрозила ему пальцем. – Ты на этих курилок не смотри! – кивнула она в направлении тёмного коридора, где уже надевали куртки остальные мужчины.
На улице была совершенная ночь, и во дворе, в лабиринте из невысоких построек, чётко различалась лишь трепещущая на ветру белым парусом простыня, всё остальное превратилось в громоздкие, плохо различаемые тени. У горизонта тлел бирюзовый остаток вечернего зарева, да тянулось вдалеке через реку равномерное ожерелье фонарей, освещавших автомобильный мост, по которому он приехал на автобусе. Небо было высоким, чисто вымытым, с разгоравшимися в нём на глазах чёткими, карандашными отметинами крупных звёзд. Невдалеке глухо и озлобленно лаял пес, и больше не было никаких звуков, ни единого источника света. Холод, опустошающая тишина, шуршащие выдохи сигаретного дыма и лёгкие щелчки от нажатия на экран телефона Димкиных пальцев. «Интересно, в Москве кто-то помнит обо мне? Знают, что я уже уехал? Или думают, только собираюсь? Тут, кажется, только сгинуть – и никто не найдёт следов. Край света!».
Отец спустился с ветхого крыльца и в резиновых шлёпанцах на босую ногу топтался, чтобы не замерзнуть, на небольшом участке, свободном от вёдер и досок. Ветер дул в другую сторону, унося табачный запах прочь, а холодный воздух, пришедший с реки, был настолько свеж, что пронизывал насквозь, до пяток. Саша, заворожённый, не понимал, хорошо ему или плохо, красиво ли то, что он видит перед собой, или пугающе, но уходить отсюда, с этого высокого порога, с которого можно было бы днём свободно окинуть бескрайние поля взглядом, а сейчас, во мраке, только угадать их вековое величие кругом, ему не хотелось. Когда отец и брат докурили, судорожно затушили бычки и бросили в сплющенную консервную банку, они всё так же угрюмо и хором позвали его за собой: «Пошли». Саша сказал, что догонит, и остался стоять.
Интересно, где сестра, не её ли это шаги за калиткой? Или нет никаких шагов… В полой этой тишине, как в зрительной голи пустыни, настигали, будто миражи, какие-то фантомные городские звуки: не то шелест шин, не то стук проходящей электрички, не то отдалённый вой полицейской сирены. Он немного подождал, но тишина не нарушалась ничем. Край времени, край земли. Вдруг подумал: «А если бы и правда – просто пропал? Тогда что? Что от этого изменилось бы?», – и жуть безжалостного «ничего» с болью скрутила желудок. Нет ни дел, которые жаль оставить незавершёнными, ни детей, чьи слёзы было бы больно представить. Разве что мать бы горевала, её жаль…
Возвращаться внутрь было всё так же тягостно, но отвратительно начали мёрзнуть нос, руки, да и внутри наверняка решат, что он очень странно себя ведёт, уходя на улицу без сигарет и оставаясь там так долго. Может быть, мать посчитает, что он курит от неё тайком, как в детстве. Эта фантазия показалась ему умилительно смешной – он, как делал подростком, выглядывает из-за курятника, не идёт ли кто, зажав отцовский «Беломор» между двух палочек, сорванных с куста шиповника, вместо пальцев. А ещё она может подумать самое страшное, что до жути беспокоило её с самого первого дня, как сын один уехал в Москву: что он подсел на наркотики. Как будто в Боголюбове их не существовало!
«Саша, ну ты где? Сколько можно ждать? Чай никак не сядем пить!», – послышался приглушённый окрик матери за дверью.
В доме уже было убрано со стола, разлит чай, за столом женщины с Димой что-то вполголоса и с редкими смешками обсуждали, а отец, сильно шатавший табурет под собой, снова наливал себе самогон. В вазочке с горкой были насыпаны разноцветные сосательные конфеты, и Саша вдруг почувствовал укол совести, что даже не догадался привезти с собой хоть что-нибудь к чаю. Мама так любит сладкое, но дома никогда не было ничего, кроме карамелек, и то покупавшихся к особенному случаю.
– Ты мне расскажи, – увидев его, садящегося напротив, начала румяная, распаренная тётя, – ты надолго приехал-то?
– Не знаю ещё.
– Да как это: «не знаю»? – Клава была возмущена. – Ты в отпуске?
– Да нет, у меня командировка, – Саша чувствовал, что это может вызвать бурю, и не хотел до последнего говорить.
– Какая командировка?! Куда? – охнула мать, до этого сидевшая за чаем тоже расслабленная и довольная.
– Сюда, в Боголюбов.
Тётка, уверенная, что её обманывают, зло рассмеялась:
– По каким таким великим делам в Боголюбов?
– Да здесь дело есть одно, материал для статьи, – продолжал напускать туман Саша.
– Какое дело? Какой статьи? Ничего не понимаю! – нервно заглядывала собравшимся в глаза взволнованная мама, как будто все здесь знали что-то, но сговорились скрывать от неё.
Клава вдруг нахмурилась:
– А-а… Я, кажется, понимаю. Про американцев наших новых, да?
Саша пожал плечами, не видя смысла говорить сейчас об этом. Да, конечно, он понимал, что рано или поздно придётся объяснить, почему он не может просидеть вот так перед телевизором несколько недель, отвечая на их беззлобные и бессмысленные расспросы, да ещё и будет вынужден часто искать уединения с ноутбуком; к тому же, стоило бы в первую очередь узнать у них, что им известно о строительстве мусоросжигающего завода и протестующих против него, – но обсуждать это именно сейчас он точно не был готов. Однако страсти начинали накаляться.
– Да каких американцев?! Вы о чём вообще, Клава?! – уже почти кричала слёзно мать, опершись своими большими локтями на хлипкий, тревожно раскачивающийся под нарастающий гул возбуждения стол. Она всегда впадала в истеричное беспокойство, если обсуждали что-то, совершенно ей неизвестное.
Тут уже и Дима оторвался от телефона и чая с карамелькой и, кажется, впервые посмотрел прямо на брата.
– Про этих, что ли, которые видео записали? – с насмешливым любопытством поинтересовался.
– Да, – утратив силы к сопротивлению, глядя в стол, ответил Саша.
– Кто это? Кто это такие, я вас спрашиваю?!
Отец тяжело вздохнул и выпил ещё – рюмкам давно потеряли счёт, а он вообще раздобыл где-то большой гранёный стакан и, пользуясь возникшим замешательством, пил из него, наполненного до краёв.
– Да есть тут одни умники, – важно заговорил брат, медленно засовывая телефон в узкий карман джинсов. – Колька Маугли и ещё какие-то собрались, записали президенту видео. Что их тут травят, мусорный завод строить собираются… Президенту Америки!
– Кто это такой: Маугли? – деловито переспросила мать, не желая терять ни единого фактика из рассказываемой истории.
– Физрук школьный, – перебила Клава, ёрзавшая на ухавшем под ней диванчике, явно желавшая поделиться и своими знаниями о случившемся.
Николая Степановича, действительно, называли так все: за волосы до плеч, спортивное телосложение и смуглый цвет лица, летом, в пору ежедневных многочасовых его забегов на пляж, обращавшийся буквально в чёрный. Тётка презрительно скривилась: «Пьянь эта!».
Тут уж Саша не выдержал:
– Николай Степаныч пьёт уж точно не чаще других, тётя Клава!
– Что-о? Ты что сказать этим хочешь, скотина? – густо заливаясь бордовым, начала привставать тётка, наклонив бритую голову вперед, словно примеряющийся к добыче бык.
Саша испугался. Он не имел в виду ни её, ни кого-либо ещё конкретного, говоря о гипотетических алкоголиках, но понимал, что прозвучало это очень двусмысленно и обидно. Он пытался сказать ей что-то успокоительное, но слова, как в дурном затянутом сне, почему-то получались только шёпотом, не слышным ему самому.
– Тихо, тихо! – вновь вовремя вмешалась мать. Саша боковым зрением заметил, как взметнулся локоть отца со стаканом. Дима рядом довольно комментировал: «Давай, давай, стол опрокидывай!».
– Расскажите лучше, чем дело с видео кончилось.
Клава тяжело плюхнулась обратно, очевидно, не имея сил для хорошего скандала, которыми славилась на всю улицу, если не на город.
– Да чем? Светка мне сегодня на рынке рассказала…
– Какая Светка?
– А из мясного!
– Из мясного какого? На рынке или в «Пятёрочке»? Там же обе Светки.
– Гляди, я и не подумала, – обе женщины искренне рассмеялись этому казусу. – Из павильона, толстая.
– А-а-а, понятно, – кивала мама, постепенно удовлетворяя своё любопытство, как будто эти детали помогали ей погрузиться в историю основательно и пережить, словно свою собственную. Саша знал, что после она будет пересказывать услышанное от сестры с такими яркими эмоциональными подробностями, что тут же делало это достоверным и переданным прямо от первого лица. Сейчас лицо её светилось довольной улыбкой от предстоящего забавного словесного приключения.
– Ну вот, она и говорит… Они видео-то записали президенту, только этому… как его… который в Америке… Дампу, во! Говорят, родная власть на них плюнула.
– Ага, – довольно поддакнул Дима, тоже желавший участвовать.
– Ого, – ошарашенно скрестила руки на груди мама.
– Вот те и «ого!». Сами бы, поди, до такого не додумались! Значит, кто-то подсказал, ещё и денег дал, и камеру… Травить их собрались! Чем хоть, скажите на милость?! Всегда мусор жгли, спокон веку, и все живы. Куда его девать – поди не есть же…
– И правда: хоть, может, свалку эту с улицы Ленина уберут!
– Точно, – Дима был необычайно оживлен, – она там, по ходу, ещё раньше Боголюбова появилась?
Мама довольно рассмеялась:
– Да уж не иначе! Я её точно помню, сколько и себя, а вас ещё и в проекте не было! – Она стала с кротким удовольствием помешивать ложечкой чай, глядя в чашку с высоты распрямленной спины, поверх своей большой, сильно выдававшейся вперёд груди, на которой покоился выбившийся из-под халата крестик на толстом чёрном жгуте. – Да-а, ну и рассказали вы историю, умрёшь! Дампу написали! А ты-то что приехал? От президента ответ передать? – мамины добрые, большие глаза смотрели прямо на него, в уголках собрались лукавые и нежные морщинки.
Взрыв хохота. Саша, старательно усмирявший сам себя, этого выдержать уже не смог. Изнутри колотилось и жгло, разрасталось, распирая грудную клетку, поднимаясь по горлу до самых ноздрей, грозясь вырваться, будто огонь из разверзнутой драконовой пасти, самопроизвольное негодование. Нужно сказать им всем, что происходит на самом деле, как глупо и гадко над этим смеяться!
– Да ничего в этом смешного нет! Вам же воздух токсинами отравят, а старые ваши кучи убирать никто не станет!
– Чё это они наши? – вмешался Дима. – Не я их делал! Ну, если только немножко совсем, – опять одобрительный смех.
Саша от этого ещё распалился.
– Куда ж их деть, съесть? – всё повторяла явно понравившуюся ей мысль тётка.
– Ведь жечь будут не местный мусор, его фурами свозить станут из Москвы и других регионов, даже из-за границы!
– Конечно, там его точно много! – продолжала широко улыбаться развеселившаяся мама.
– Ну и зачем вам нужно: продолжать жить при своих свалках, так ещё страдать от чужих?
– А мы гостеприимные! – как-то вдруг хором крикнули Клава и Дима, отчего снова засмеялись, а брат ещё добавил. – Мы люди колхозные – не такие жадные, как вы, москвичи.
– Да причём тут жадность? Сжигать будут по варварским, везде отменённым методам – это обширные загрязнения воздуха, почвы, резкий всплеск онкологии, уродств у новорождённых…
– Да с чего вдруг? – обиженно вскрикнула мать. – Ну правда, куда-то же раньше девали все отходы? Так же сжигали, и ничего, жили люди. И продолжают жить возле таких же заводов как-то.
– Откуда вы знаете, как они жили?! Ведь здесь этого никогда не было. Не просто так от сжигания мусора постепенно отказываются во всём мире.
Мать боязливо взглянула на висевший на стене напротив бумажный календарь с изображением Николая Угодника и быстро перекрестилась.
– Мы не весь мир, у нас тут всё особое. Кому надо – людей травить? Они ж там, – она таинственно подвела глаза к потолку, – за наш счёт живут, мы ИМ здоровыми нужны.
– Да выдумки всё это, вы-дум-ки! – Клава опять завелась – Ты думаешь, ты один такой умный? Задавали уже вопросы Ковалёву, губернатору, я смотрела по местным новостям, тот побожился, что своих людей в обиду не даст никому, никаких ядов не будет, всё по высочайшим стандартам.
– По стандартам 95-го года! – всё сильнее злился Саша, понимая, что пора бы остановиться, но не представляя, как это теперь сделать. – Чтобы построить современный мусороперерабатывающий завод, его не печами нужно оборудовать, а высокотехнологичной аппаратурой! Купить её за рубежом. Это огромные деньги, которые никогда не окупятся! А строит завод сын губернатора, младший Ковалёв! Вы знаете, сколько с ним историй связано… У него, конечно, дом в Испании, семья там – как вы здесь себя будете чувствовать, его совершенно не беспокоит, он просто отмоет деньги на закупке списанного оборудования.



