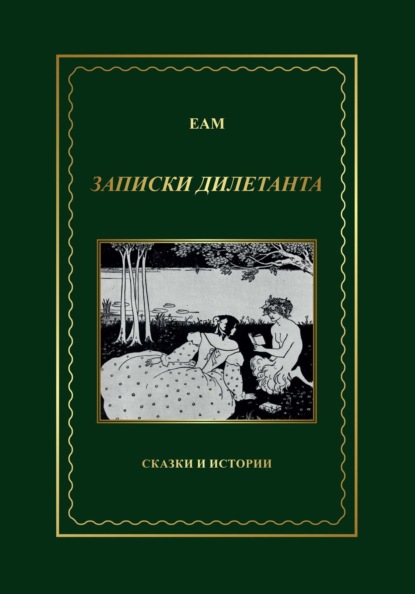
Полная версия:
ЕАМ. Записки дилетанта. Сказки и истории, книга 1
Но вот он выдохнул, зажмурился – и перед его закрытыми глазами всё так же расчёсывала волосы нимфа, и всё так же на его ладони – сверкал, перламутровел в восходящем солнце гребень…
Чуть из мифологии Фавна

А вот и когда-то пропущенная сказочка о феечке… ох, нет, о ведьмочке, Фавне и… одуванчиках[41].
Однажды ведьмочка сплела венок из одуванчиков. Бог весть почему – быть может, в тот день как-то особенно пахла сирень, или особенно нежно и прозрачно голубели небеса, и ей хотелось чего-то… необыкновенного. Пальчики её были нежны и неумелы (хотя с другими ведьминскими обязанностями она справлялась отлично), а потому венок получился густой и растрёпанный, с торчащими травинками… Но он так изящно обрамлял нежный очерк её лица, что она залюбовалась своим отраженьем в зеркале маленького лесного озерца…
Но в это мгновенье смутное пятно чьего-то ещё лица мелькнуло сзади – ведьмочка успела лишь разглядеть раскосый очерк глаза да странную тень – и виденье исчезло почти беззвучно в густых зарослях за её спиною, и в её слишком любопытном, хоть и чуть испуганном взгляде…
Ведьмочка, впрочем, скоро почти позабыла об этом, а меж тем Фавн (это следы его копыт отпечатались на отмели, где любовалась собою Ведьмочка), чувствовал что-то необычное в весеннем ветре. Нежное томленье, воспоминанье о её отраженьи, жёлтый цветок, упавший из её венка, и увядший в его пещере…
И в жизни ведьмочки появились одуванчики. То она находила букет у ручейка, в котором черпала воду (и вдохновенье) для своих колдовских занятий, то цветы усыпали тропинку, по которой она возвращалась, а то вдруг она находила их на своём пороге, или на окне…
А меж тем лето вступало в силу, и один за другим одуванчики начинали белеть и пушистеть… И ведьмочка задумывалась, и отчего-то грустила, и улыбалась, и что-то вспоминала…
И вот, в один прекрасный день (ах, всё-то у вас в сказках случается в прекрасные дни! – посетовала одна читательница; так быть может, дни и становятся прекрасными, потому что сказошности случаются именно в этот день?:-) – ведьмочка увидела перед собою огромный букет пушистых, прозрачных, изящных цветов, а за ними – странную, коленопреклонённую фигуру. И когда она осторожно коснулась пальчиками букета, пушинки словно нехотя разлетелись, и…
С тех пор уж давно отцвели и облетели одуванчики, вступили в силу розы и ирисы, а потом и вовсе – осенние хризантемы и георгины… Но только Ведьмочку и Фавна часто видели вместе в лугах и в солнечных рощах, в лесных гущах и у берегов рек. И весною – с того момента, когда распускались одуванчики, и до тех пор, пока последняя пушинка не слетала с них, головы Ведьмочки и Фавна всегда украшали венки…
Вот такую историю я прочёл однажды, разбирая свои старые бумаги, поучившие потом название «Мифология Фавна»… На самом-то деле историй в «Мифологии» много, просто некоторые из них ещё не случились, а некоторые – пока не записаны…
Однажды случившееся, или смысл простых вещей

[42]
И проясняется смысл простых вещей… Обыденность сумерек, привычность нежности – настолько, что перестаёшь её ценить и позволяешь себе поддаться мгновенным, проходящим нежеланьям.
«Сентиментальность» по Далю – это… поищем-ка… – опаньки! а и нету там этого слова… Пускай, не суть, знаю лишь, что способность обливаться слезами над вымыслом и воскрешать былое[43], есть, как, наверное, и déjà vu – признак того неуловимого, что отличает – творца.
И каждая из строк и картинок воскрешённого при сотвореньи былого, однажды случившегося, ведёт на свои пути – воздушные[44], небесные ли, но – уводит от того чистого, первоначального чувства-ощущенья, побудившего коснуться клавиш воспоминаний. И только если возникающая музыка слов уютна, узорна и кружевна (словно вы решаете «ещё раз перечитать историю о том, как герцог Бофор бежал из Венсенского замка»[45], или снова поглядеть через плечо рисующей акварелью Ады[46], или[47]…), знакома и обворожительна, лишь тогда душа сама собою принимает эту реальность, не слыша соблазнительного звона серебра…
Отвлекающего соблазна – звона серебряных монеток[48], быть может, или, напротив, манящего – звона серебряных монист гоголевской цыганки, тряхнувшей головою на залитой солнечной дымкою травяной поляне под Римом? Или звона кошеля с серебром, брошенного нищему на мощёную парижскую (или арканарскую) мостовую… Блеск серебра на солнце, и – сквозь звон музыки, «серебро Господа моего»[49], – возвращение к сотворенью, но если не успеешь расслышать, понять однажды случившееся, соблазнишься – всё вернётся к исходной тишине, безнадёжности и невозможности[50] того, что так желанно хотелось узнать, разглядеть в потоке равнодушного времени – того, что обещано, обещалось и обещается вот сейчас прустовским солнечным лучом[51] – некого блаженства понимания, которого, наверное, и нету на этой земле вовсе… Пониманья смысла простых вещей, слиянья с этим неспешно-стремительным потоком времени, пониманья, в котором душа могла бы раствориться, пониманья, воплощённого в… Бог весть в чем, в ком. Хотя я лукавлю – я знаю возможные его воплощенья; и отсутствие выбора, возможности ответить на этот вызов красоты и желанья[52], наполняет душу равнодушием, с которым всегда можно глядеться в колодец времён[53], или – в поток проходящего мимо столь же равнодушнонеспешного времени[54], снова забыв о самых простых вещах…
А тишина эта, в которой уже нет и следа однажды сбывшегося, и уже не слышно серебряного звона, ещё и усугубляется – мученьем ненаписанного. Те миры, что живут во мне, невоплощённые, как у отца Гура[55], несотворённые, ждущие своего часа, возможности выплеснуться на песок жемчужно сияющей в луче солнца волною, или засветиться зеленоватым светом сумерек московских закатных небес… Или, вдруг – стать залитой солнечными лучами венецианской набережной, ещё жаркой, но уже предчувствующей сумерки, которые превратят однажды виденное – в сказку… Или… Ах, как много несбывшихся обещаний, и обещаний сбывшихся[56] таит в себе луч солнца, пляшущего на подоконнике: тут тебе и цветаевское «дуновение вдохновения»[57], и набоковское обещание бабочек[58], и своё – единственное, приближающееся несбывшееся, обещанное лишь тебе…
Но вот, о чудо – послышалась сказка, превращенье[59] произошло, со-творенье случилось, истомная, в розах и увитая диким виноградом грёза Нерваля[60] вдруг стала реальностью – точнее, дала возможность создания новой сказочной реальности в душах нескольких, вовсе не связанных между собою людей. И… и что же? Прошли те времена (да и – были ль?), когда такие виденья и сказки ценились славою и существованьем… Нынче остаётся лишь сетовать на стремительное теченье времени, того, что неумолимо несет туда, где всё иначе, где, во всяком случае, не существует вовсе этого «я», которое только и останется на этих страничках для кого-то, останется возможностью вспомнить – вот так же – своё однажды случившееся.
Но всё же, вглядываясь в этот поток времени снова и снова, понимаешь, что можно кое-что различить в нём, что воспоминанье наполненно теми же оттенками, что и сказка нынче – когда вечереющее солнце бьёт в глаза сквозь почти невидимые стволы нескольких сосен неподалёку, отсюда похожих на свечи[61], и льётся на широкий белый подоконник, упираясь – куда, во что? Как ни напрягаю память (ах, капризнейшая из Мнемозин!) – помню лишь небольшую часть стены, дощатый переплёт, увитый диким виноградом, тогда как остальное только услужливо достраивается более поздними воспоминаньями – а их не стоит сюда пускать, ведь тогда нарушится первозданная достоверность картинки. А между тем, дремотно закрывая глаза, я и сейчас могу расположить в пространстве памяти свою кровать…
Объяснимся[62]: мы вернулись в мечтательный мир досознательного детства, когда лишь отдельные искры сознания и ощущений наполняют его (для нас, нынешних), оставляя в забвеньи (быть может – блаженном, или же – мучительном?) всё остальное – горькое или радостное, но – весьма обыденное внешне, в котором, однако, время ещё было бесконечно[63] и наполнено смыслом.
Итак: кровать расположена посередине, среди других рядов кроватей, ещё застеленных, и, чтобы пройти к ней и улечься (время дневного дремотного сна – «тихий час») надо ещё задеть боком её холодную круглую железную спинку, и, возможно, обхватить её ладонью. Собственно, холодно и в самой кровати – чуть сырые простыни и… – и чтобы чуть дольше не касаться этого холода хотя бы частью спины, приходится подкладывать кулаки – большими пальцами вверх! – под спину. Ноги надёжно укрыты тяжёлым, больнично-детсадовским буро-сине-коричневым в крапинку (почему-то вдруг напомнившим на мгновенье крапинки перепелиных яиц в Елисеевском[64]) одеялом, и постепенно солнце за окном становится всё менее ярким, под одеялом становится тепло, и вот тут… нежная ностальгическая тоска по дому и странные грёзы вдруг сплетаются между собой в одно – томное и желанное целое; жалость к себе и мысль о том, чтобы «не быть вовсе», исчезнуть, раствориться в этом таком желанном мире подступает к горлу слезами[65], заставляя возбуждённо стучать сердце худенького (если судить по детсадовским фотоснимкам тех времён) мальчишки, глядящего позабывшими всё на свете глазами на белый потолок над собою, где по углам пересекаются какие-то старые провода, покрытые давно облупившейся краскою… А меж тем видит он странные картинки, и не оттуда ль, не из тех ли грёз, и рождаются сейчас сказки?.. Но до этого ещё далеко, это ещё только предстоит услышать и рассказать, а сейчас – какой-то человек, затянутый во всё красное (похожее на цвет красного воздушного шарика), стреляет себе в сердце из пистолета, и падает с небольшого возвышения в… не хочется здесь произносить это слово, потому как оно сейчас наполнено совсем другими, более поздними переживаниями, а тогда…. И мальчик, лежащий сейчас с открытыми глазами, и есть этот человек, и одновременно, сразу, плачущие (вернее – грустно и горестно горюющие) вокруг родственники (собирательный образ: родители, дедушка, бабушка, тётя) и ещё кто-то, смотрящий на всё это сверху, и получающий от всего этого пронзительное наслажденье, близкое к…
Отгадка проста, хоть и не хочется мне (вот, опять не хочется) произносить это слово вслух, но именно это воспоминанье, вместе с цветом одежды тогда стрелявшегося человека, и станет предвестьем – но только предвестьем! – когдатошних сексуальных впечатлений, а пока… Пока – ничто похожее неведомо ему, уже двенадцати, почти (за окном уже золото осени) тринадцатилетнему, попавшему в больницу из-за непонятного «шума в сердце»…
Детишки там были весьма разновозрастные и разнородные, и проходя вдоль длинного больничного коридора (с одной стороны – окошки, с другой – палаты), упиравшегося в сестринский пост (на самом-то деле обыкновенный стол, заставленный лекарствами, пробирками, бланками и банками) можно было пройти даже мимо «девчачьей» палаты. Хотя девочки его тогда ещё не волновали, зато как о них рассказывал сопалатник Серёжка Бехметьев, бывший чуть постарше, и проходивший какие-то сложные обследования… Говорил он, например, что одна из них, старшая, Ленка, ничего вовсе не носит под больничным халатом, и это вызывало смутный, но какой-то предвкушающий, будущий интерес…
А вечерами – длинными осенними вечерами, после раннего ужина, который раздавался спешившими домой, в погожую солнечную осень санитарками, и когда становилось томительно скушно – они вдвоём, как самые старшие, пользуясь своей свободой передвижения, шли к сестринскому столу – поглядеть, как готовится вечерняя порция лекарств… Этими вечерами (а значит, и ночами) почему-то дежурили только двое: чуть полноватая, белокуро-крашено-голубоглазая хохотушка Зоя[66] (к которой Серёжка был явно неравнодушен), ходившая в кокетливой белоснежной плоской шапочке с завязками, и хрупкая Марина, поднимавшая при нашем появлении от книги нежный, слегка отрешённый взгляд насмешливых, чуть с зеленцою, глаз, и машинально поправлявшая выбившийся из-под строгой крахмальной косынки непокорный рыжий локон… Ах, ежели б можно было вот сейчас, заглянув ей через плечо, разглядеть, что же она читала тогда? – и много бы я отдал, чтобы это был… (улыбнувшись: «хорошо-хорошо, я знаю, что этого не может быть») – ну, пусть даже не невозможные тогда Набоков или Нерваль, но – Бунин или Пастернак… Она была ровна и приветлива, называя его «мальчиком-колокольчиком» за модную тогда, «под Битлов» слегка удлинённую стрижку, шутя шлёпала по рукам Серёжку, пытавшегося стащить лишнюю витамининку из раздачи… Но стоило лишь вернуться в палату, или даже – отвернуться, отвлечься, думая о чём-то своём, как я забывал о ней, потому что она была такою же частью больничного существованья, и её появление, или хохоток Зои означали лишь – дни недели, когда придут или не придут навестить родители, с которыми можно будет поговорить на «немом» языке через окошко у лестницы… О, этот странный немой язык-алфавит я помню до сих пор – тот, где «а» обозначалось поднятым вверх большим пальцем, «б» – прикосновеньем к брови, «г» – мизинцем к губам, «д» – указательный палец под носом – горизонтально… А потом родители уходили – домой, в недостижимый, невозможный, непредставимый сейчас мир, потому что вернуться туда было нельзя, а здесь от этого становилось ещё более грустно (как словно уже было когда-то), хотя любимый «Понедельник»[67] и был здесь, с тобою… А ещё потом к этой томной грусти стали примешиваться и другие воспоминанья – несколько дней назад Марина, после какого-то насмешливо-забавного спора (а язык у него уже тогда был подвешен неплохо[68]), вдруг, рассмеявшись, на мгновенье притянула его голову к себе, охватив ладошкой за шею, так, что он ткнулся лицом в накрахмаленную белизну её халата, и носом в чуть обнажившуюся нежную шею, ощутив прохладный, слегка терпко-цветочный аромат её кожи, или, наверное, духов, что в контрасте с теплотой её кожи… Была ли это случайность, нет ли, но только воспоминанье о ней наполняло всю мечтательную часть его существа… А она была всё так же ровна и приветлива, всё так же любила рассказывать смешные байки о преподавателях и анатомичке (училась она на медицинском) и так же любила послушать их с Серёжкою рассужденья о будущем, пришельцах, роботах и кибернетических машинах, которыми он тогда бредил, начитавшись Станислава Лема.
Но «шумы в сердце» (ах!) не проходили, и был назначен «бицилин», а это… больно. Уколы обычно делали в палате, но вечерами сёстры, чтобы не ходить зря, делали их в процедурной. «Давай свою попу!» – привычно скомандовала Марина, и он сжался на банкетке, заметив лишь, как мелькнула её тень на стене. Мгновеньями позже, когда боль ушла под её пальцами, (словно растворившись в привычном запахе спирта), она отошла, и, хотя он и не видел её уже, даже краем глаза, он знал, что руки у неё всё ещё в тонких медицинских перчатках (что-то там такое, связанное с инструкциями тех лет) и вот тут она сказала: «перевернись на спину, но не одевайся…». Он привычно, не задумываясь, подчинился, ощутив прохладное прикосновение простыни к спине, и, увидев на потолке плохо закрашенные провода в свете уже заходящего солнышка ранней осени. И вот в это мгновенье она прильнула к нему губами… Ах, каким нежным и сильным, мягким, податливым и гибким оказалось её тело, и они умирали несколько раз – одновременно… Но в тот, самый первый и неповторимый раз, когда его губы коснулись её груди, он умер один – растворившись, исчезнув в этом мире, став чуть дрожащим в предвечернем осеннем свете солнечным лучом…
Странно, что я не помню расставанья – да и было ли оно? То ли меня выписали, то ли у неё в это время началась сессия… Но было ещё одно воспоминанье, которое останется в моей обмирающей, почти обморочной памяти…
Перед вечерними процедурами он разгонял младших по палатам, помогая Марине (или Мари, нежно называл он её про себя, вспоминая глаза княжны Мэри да Пушкина – мальчик он был начитанный – почти как тот сказочный краб, про которого он напишет, став совсем, совсем взрослым). Но день был – родительский, детишки были взбудоражены и непокорно-капризны. Особенно – один, маленький, вертлявый рыжеватый ябеда, фамилию которого Мнемозина насмешливо отказывается… что-то на «О»… или вовсе что-то чеховское, лошадиное[69]? И вот, когда после топотливой погони, этот рыжий, увёртливо проскочив несколько кроватей, столов да пыльных стульев без спинок, был всё ж схвачен сзади за полусползшие колготки, и получил вдогонку болезненный щелобан вместе с увесистым шлепком раскрытыми пальцами по тонкой шее и: «а ну, быстро на укол к Марине, рыжая з…да!…» (почему, почему это вдруг вырвалось у него!?), он вдруг, в это самое мгновенье, осознал, что стоит наклонившись, почти уткнувшись головой ей в колени[70] – она только что отошла от очередной кровати, где меняла капельницу, и глядела на него, глядела… Это невозможное, невыносимое сочетанье – его слов и её улыбки – нежной, любящей, чуть недоуменной (словно спрашивающей: «ты ли это, Боже мой?») но уже всё понимающей, и даже – уже извиняюще-прощающей…
И очерк её щеки в солнечном свете. И – ничего более.
А, собственно, я всего лишь постарался описать, какие – бывшие и не бывшие воспоминанья оживают, когда луч предвечернего солнца падает на белый подоконник распахнутого в сад[71] окна.
В тот сад, где…
1 апреля 2003
Манифест сноба (апология снобизма)
«Они хочут свою образованность показать, и говорят о непонятном!»
А. П. Чехов, «Свадьба»У нас говорили: «Вы слишком учёный. Здесь такие цитаты… Вы хотите показать, что вы образованный, это негуманно. Нельзя цитировать того, чего другие не знают!». Почему-то именно самое яркое, талантливое, учёное представляется самым опасным, хотя…»
О. Седакова, «Посредственность»
Давеча одна из замечательных умничек и моих самых ценимых читательниц, «обозвала» вашего покорного слугу снобом, сердито обвинив меня (а точнее, мои тексты) в следующих «страшных» грехах (ежели я правильно помню порядок): снобизм, лень, нелюбовь к читателю. Что ж, упрёки в снобизме и лени я с удовольствием принимаю (слегка гордясь даже, что в том же обвиняли и любимого Набокова, а Пруст и вовсе обвинял в них самого себя), но всё ж замечу, что если считать определением снобизма «тщательное следование вкусам, манерам и пр. высшего света и пренебрежение всем, что выходит за пределы его правил; претензии на изысканно-утонченный вкус, исключительный круг занятий и интересов»[72], то в моём случае справедливо лишь не «пренебрежительное» даже, а – вполне себе равнодушное отношение ко всему, что выходит за рамки моих[73] интересов, привязанностей и любовей. Не более.
Потому как именно текст – то самое единственное место, в котором я считаю собеседника (или, чаще – собеседницу) априори равными себе, достойными уваженья, и поэтому-то[74] совершенно не пытаюсь подстраиваться под их настроения, желания или ожиданья[75]… Скорее всего, это просто – возрастное, но ведь и игра безотчётного неба в тексте достигается опытом[76]… И чем дальше, тем яснее понимаю я, что ежели кому-то незачем этот текст[77], то пусть откупорит шампанского бутылку… иль перечтёт – ну что-то там ещё[78]. Моё же дело – просто позвать в сказку, в текст, иногда – насмешливый, иногда – с лёгким привкусом сновиденья или ужаса, полюбоваться жемчужностями океана или мреющими облаками, поулыбаться, поразмышлять или попечалится чуть, побродить с вами в тех самых литературных и философских слегка лесах[79]…
Но в том, что касается постоянства и ограниченности мест прогулок, тех самых книжных предпочтений и ссылок – увы! Я всё так же соглашаюсь с Борхесом, что почти у всякого плохого писателя можно найти пару хороших страниц. Но… зачем!?[80] Зачем, уподобляясь некоему легендарному петуху, искать где-то жемчужные зерна[81], тогда как у любимых авторов в текстах – кругом сплошные сокровищницы: ожерелья, жемчуга, рубины[82], золотоносный песок…
Ну и (в качестве небольшого само-оправданья) добавлю, что обычно достатошно легко включаю в long-list (ну… не в «Избранное» же, разумеется, о котором см. чуть дальше – «Игры в списки»[83]) любого понравившегося, в меру «конгениального»[84] автора, прошедшего испытательный срок – своим вторым[85] текстом. Итак, со снобизмом – разобрались, надеюсь?
Так, что у нас далее по списку? Сверимся с картотекой[86]… О, да! Лень. Тут всё более чем справедливо. Мало того, моя лень – внутренняя, исходная, истомная, не видящая вовсе стимулов к своему преодоленью. Да и вправду, зачем!?[87]
И, наконец – «нелюбовь к читателю»… Ох, а вот это, увы – правда. Но, право слово… за что ж, скажите на милость, мне его любить? Ежели девяносто девять из ста читателей, проглядев написанные (изящно и вдохновенно, между прочим!) полстранички, скажут, зевнув: «муть голубая», и возвратятся к своим любимым текстам[88]?. Беда в том, что «российский читатель-современник представляет собой продукт того литературного воспитания, которое мне глубоко апатично»[89]… Итак, «ан масс», как говаривал незабвенный Выбегалло[90], читатели мне скушны (за очень редкими исключеньями)[91]. И ничего с этим не поделаешь, вспомните опять Набокова, у которого тоже не было «идеального читателя», он лишь представлял его себе в виде розовощёкого бородатого интеллектуала, посасывающего трубку[92], а я… гм… – даже и представить не могу.
Совсем иное дело – читательницы. Признаюсь, вот их благодарное вниманье, их улыбки и мненья – мне отнюдь не безразличны, и я с жадностью ловлю малейшие отзвуки ими прочитанного и сказанного… Что ж, давайте попробуем представить идеальную читательницу: чувственную, чувствительную, слегка влюблённую, слегка скучающую умницу, отыскивающую в моих сказках – отголоски и россыпи своих фантазий, своих детских воспоминаний, своих влюблённостей, со-творяющую текст вместе со мною. Ту, что следует (так же капризноприхотливо, как это писалось!) – своим законам чтенья моего текста: от последовательного, терпеливого, фраза за фразою, пере-читывания, вслушиванья, вглядыванья в кружева во время вечерней ванны, до укладывания любимых сказошных отрывков (пусть даже их совсем чуть-чуть!) на любимое место в офисе, где лежат заветные вещички; от «купания» в тексте (с возвращением к нему вновь и вновь, или иногда – вовсе без оного!), до распечатывания и «таскания с собою в сумочке» – опять же «избранного», или даже комментариев[93]. А ведь возможно ещё – улыбчивое любопытство, поток ассоциаций, чтенье сначала без сносок, а уж потом, или… Да что я – все вы, кому хоть раз приходилось испытывать муки со-творенья, и сами это знаете не хуже меня…
Ну и почему же должен я, ради неких абстрактных читателей, (а вовсе не ради этих, моих, любимых, понимающих меня с полу-слова, полу-вздоха) – жертвовать улыбчивой и самодостаточной, вполне себе объёмной и забавной свободой текста[94], отвечающей моему, и, дай Бог – чьему-нибудь ещё (а вдруг?) нынчешнему состоянию – вот – сейчас? Нетушки-нетушки.
Давным-давно, ещё в «Поисках времён», я сделал первую попытку некоей (пусть и не слишком жёсткой) структуризации текста и «подгонки» его под существующие каноны[95] восприятия литературного текста. И… вот признаться ли? Если к «Со-творенью» я ещё иногда возвращаюсь (и с удовольствием!), то к «Поискам» – лишь местами[96]. Подозреваю, что как раз теми, где нет «придуманности», искусственности, во имя вот этого нелюбимого (ах, как он чувствует мою нелюбовь[97] – ну и фиХ с ним!) читателя.
Так что – нет-нет, не отрекусь – «от самой безнадёжной и продрогшей – из актрисуль..»[98] – ни от строки, ни от странички текста, ни от способа его чувствовать, сотворять. Но…
А вот до этого «но» замечу, что мне, по счастью, не приходится во имя денежного или сиюминутного[99] успеха жертвовать собственными желаньями и прихотями, так что «пишу я ради совершенно конкретного удовольствия…»[100], и ради тех редких мгновений со-творенья, когда чья-то душа откликается вдруг… Откликается – там, на небесах, слыша созвучья, даря пониманье[101]. А утвержденье «читатели читают тех, кто их любит, или ненавидит»[102], а не тех (добавлю от себя) кто к ним равнодушен, считая большинство из них иными, гоблинами и прочими неприятными созданьями[103] – быть может, и справедливо, но… Послушайте, ну неужто (вспоминая навскидку): Набоков, Бунин, Булгаков, Чехов, Стругацкие, да сам Толстой наконец – любили людей, «решали их проблемы»? Да Бог с вами, конечно же, нет – ведь именно тогда, когда они пытались это делать[104] становились дидактичны, стандартны, да и… просто скушны.
Кроме того, я бы всё же не стал позиционировать эти тексты как «десертное желе – вкусно, но бесформенно»[105] (хотя против и возразить нечего, чем плохо: к кофею, да в хорошем настроении, несколько страничек такой «вредности»?). Не стал бы, хотя б потому, что они вообще никак не позиционируются: «не написал… случилось так»[106]. И, право ж, очень жаль, если у моего гипотетического[107] «идеального» (или хотя б доброжелательно-внимательного читателя, а уж тем более – читательницы, не дай Бог!) возникнет ощущение пренебрежения ими – это вовсе не так, хотя тексты эти (практически все, за исключением нескольких сказок и отрывков, написанных «под заказ» для совершенно конкретных читательниц), писались прежде всего – для себя, для того Самого «конкретного удовольствия». Но, поверьте, читать текст их глазами – удовольствие не меньшее… Вспомните, наконец, пару эпиграфов к «Сотворенью»[108]…



