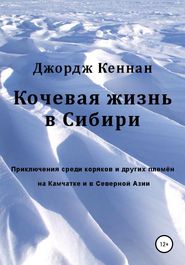 Полная версия
Полная версияКочевая жизнь в Сибири
Расскажу про ещё один случай, имевший место в течение первого месяца нашего пребывания в Гижиге и иллюстрирующий другую сторону русского народного характера, а именно: крайнее суеверие. Однажды утром, когда я сидел дома и пил чай, меня прервало внезапное появление казака по фамилии Колмогоров. Он выглядел вполне трезвым и чем-то озабоченным, и как только поклонился и пожелал мне доброго утра, то обратился к нашему казаку Вьюшину и стал вполголоса рассказывать ему о том, что только что произошло и что, по-видимому, представляло для них большой интерес. Из-за моего недостаточного знания языка и приглушенного тона, с которым велась беседа, я не уловил её смысла. Разговор тем временем завершился серьёзной просьбой Колмогорова, чтобы Вьюшин дал ему некий предмет одежды, который, как я понял, был шарфом или палантином. Вьюшин тотчас же подошел к маленькому шкафу в углу комнаты, где он имел обыкновение хранить свои личные вещи, вытащил большую сумку из тюленьей кожи и стал искать в ней нужный предмет. Вытащив три или четыре пары меховых сапог, кусок сала, несколько чулок из собачьей кожи, топорик и связку беличьих шкур, он, наконец, с торжественным видом достал половину старого, грязного и изъеденного молью шерстяного палантина и, передав его Колмагорову, принялся искать другую половину. Вскоре он обнаружил и её, она оказалась в ещё худшем состоянии. Обе половинки выглядели так, словно их нашли в мешке какого-то бедного сборщика тряпья, который выловил их из сточной канавы в трущобах. Колмогоров связал оба куска, аккуратно завернул их в старую газету, поблагодарил Вьюшина за беспокойство, с видом большого облегчения поклонился мне ещё раз и вышел. Недоумевая, что он может делать с таким поношенным и грязным предметом одежды, я обратился к Вьюшину за разъяснениями.
– Зачем ему понадобился этот палантин? – спросил я. – Он же ни на что не годится.
– Я знаю, – отвечал Вьюшин, – это никуда не годное старьё, но другого в деревне нет, а у его дочери «анадырская болезнь».
– Анадырская болезнь? – повторил я с удивлением, никогда не слыхав о такой, – Какое отношение эта болезнь имеет к старому палантину?
– Видите ли, его дочь попросила палантин, а так как она болеет анадырской болезнью, то они должны дать ей палантин. А то, что он старый, не имеет никакого значения.
Это объяснение показалось мне очень странным, и я стал расспрашивать Вьюшина более подробно об этой странной болезни и о том, каким образом старый, изъеденный молью палантин мог принести больной облегчение. Информация, которую я получил, вкратце была такова: Анадырская болезнь, называемая так по своему происхождению из Анадырска, была своеобразной формой духовного транса, который был издавна известен в Сибири и который не лечился никакими традиционными лекарствами и методами. Люди, с которыми он случался – как правило, это были женщины – теряли сознание от всего, что их окружало, внезапно приобретали способность говорить на языках, которых они никогда не слышали, особенно на якутском, или становились ясновидящими и весьма точно описывали предметы, которые они никогда не видели и не могли видеть[108]. Находясь в таком состоянии, они часто просили о чем-то особенном, чей внешний вид и точное местоположение они описывали, и если это не было принесено им, они впадали в конвульсии, пели на якутском языке, издавали странные крики и вообще вели себя как сумасшедшие. Ничто не могло успокоить их до тех пор, пока предмет, о которой они просили, не был получен. Так, дочь Колмогорова беспрекословно потребовала шерстяной палантин, а так как у бедного казака ничего подобного в доме не было, то он отправился искать его по всей деревне. Это было всё, что Виушин мог мне рассказать. Сам он никогда не видел ни одного из таких одержимых и только слышал о них от других; но сказал, что предводитель гижигинских казаков Падерин, несомненно, мог бы рассказать мне больше, так как его дочь тоже страдала этим недугом. С удивлением обнаружив среди невежественного крестьянства Северо-Восточной Сибири болезнь, симптомы которой так напоминали признаки современного спиритизма, я решил исследовать этот предмет как можно глубже и, как только пришёл майор, убедил его послать за Падериным. Командир казаков – простой честный старик, которого нельзя было заподозрить в обмане – подтвердил всё, что сказал мне Вьюшин, и поведал много других подробностей. Он сказал, что часто слышал, как его дочь, находясь в таком трансе, говорит на якутском языке и даже знал, что она рассказывает о событиях, происходящих на расстоянии нескольких сотен миль. Майор спросил, откуда он знает, что его дочь говорила на якутском языке. Он ответил, что не знает наверняка, но это не был ни русский, ни корякский, ни какой-либо другой язык, с которым он был знаком, но он звучал очень похоже на якутский. Я спросил, что делается в случае, если больная потребует какую-нибудь вещь, которую невозможно найти. Падерин ответил, что никогда не слышал о таком случае, а если запрашиваемый предмет был необычный, девушка всегда указывала, где его можно найти, часто описывая с величайшей точностью вещи, которые, насколько он знал, она никогда не видела. Однажды его дочь попросила конкретную пятнистую собаку, которая бегала в его упряжке. Собаку привели, и девушка сразу же успокоилась, но с этого времени собака стала такой дикой и беспокойной, что стала почти неуправляемой, и, в конце концов, её пришлось убить.
– И ты веришь во все это? – нетерпеливо перебил майор.
– Я верю в Бога и в Спасителя нашего Иисуса Христа, – отвечал казак, благоговейно перекрестившись.
– Это хорошо, так и должно быть, – подтвердил майор, – но это не имеет никакого отношения к анадырской болезни. Ты действительно веришь, что эти женщины говорят на якутском языке, которого они никогда не слышали, и описывают вещи, которых они никогда не видели?
Падерин выразительно пожал плечами и сказал, что верит тому, что видит. Затем он перешел к дальнейшим, ещё более невероятным подробностям относительно симптомов болезни и таинственных сил, которые она развивает в людях, иллюстрируя свои утверждения ссылками на случаи с его собственной дочерью. Он, очевидно, твердо верил в реальность болезни, но не мог сказать, какой силе приписать феномен ясновидения и способности говорить на чужих языках, которые были самыми поразительными симптомами этой таинственной болезни.
В тот же день нам довелось побывать у исправника, и в ходе беседы мы упомянули об анадырской болезни и рассказали некоторые из историй, которые мы услышали от Падерина. Исправник, скептически относившийся вообще ко всему и особенно к этому, сказал, что он часто слышал об этой болезни, и что его жена твёрдо верила в неё, но, по его мнению, это был просто обман, который не заслуживал никакого другого лечения, кроме сурового телесного наказания. Русское крестьянство, по его словам, очень суеверно и верит во всё, что угодно, а анадырская болезнь была отчасти заблуждением, а отчасти хитростью, которую женщины применяли с корыстными целями. Например, женщина, которая хотела новую шляпку и не могла получить её обычными уговорами, находила очень удобным в качестве последнего средства впасть в транс и потребовать шляпку как физиологическую необходимость. Если муж всё ещё оставался непреклонным, нескольких хорошо исполненных конвульсий и пары песен на так называемом «якутском» оказывались достаточно убедительными. Затем он рассказал о русском купце, на жену которого напала анадырская болезнь и который действительно совершил путешествие зимой из Гижиги до Ямска на расстояние 300 верст, чтобы раздобыть шёлковое платье, о котором она просила! Конечно, женщины не всегда просят предметы, которые они обычно хотят в здоровом состоянии. Иначе это возбудило бы подозрения их мужей, отцов и братьев и привело бы к ненужным расспросам. Чтобы избежать этого и скрыть от мужчин истинную природу обмана, женщины часто просят собак, сани, топоры и подобные предметы, которые им на самом деле не нужны, и таким образом убеждают своих доверчивых родственников, что их требования управляются только болезненным капризом и не имеют в виду никакой определенной цели. Таково было рационалистическое объяснение, данное исправником любопытному явлению, известному как анадырская болезнь, и хотя оно лишь доказывало, что женщины более коварны, а мужчины – более доверчивы, чем я предполагал, я не мог не признать, что толкование это было довольно правдоподобным и объясняло большинство симптомов.
Принимая во внимание эту замечательную женскую стратегию, наши сильные духом женщины в Америке должны признать, что их сибирские сестры проявляют бо́льшую изобретательность в получении своих прав и искуснее манипулируют своими господами и хозяевами, чем это было продемонстрировано всеми женскими правозащитными ассоциациями в христианском мире. Изобретение воображаемой болезни с такими специфическими симптомами, распространение её как эпидемии по всей стране и использование в качестве отмычки для взлома мужских кошельков и удовлетворения своих потребностей – это величайший триумф, которого женская хитрость когда-либо достигала над мужской глупостью.
Откровения исправника подействовали на Додда весьма своеобразно. Он заявил, что чувствует некоторые симптомы анадырской болезни и уверен, что ему суждено стать очередной жертвой коварной болезни. Поэтому он просил майора не удивляться, если он когда-нибудь застанет его дома в сильных конвульсиях, поющим «Янки Дудл» на якутском языке и требующим вернуть ему задолженность по зарплате! Майор заверил его, что в случае такого чрезвычайного положения он будет вынужден прибегнуть к помощи исправника, а именно: двадцать ударов плетью по голой спине, и посоветовал ему отложить свои конвульсии до тех пор, пока бухгалтерия Сибирской Экспедиции не будет в состоянии удовлетворить его требования.
Наша жизнь в Гижиге в начале июня была гораздо лучше по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Погода была в целом тёплая и приятная, холмы и долины зеленели пышной растительностью, световой день стал круглосуточным, и нам ничего не оставалось делать, как бродить по окрестностям с ружьём, время от времени плавать на лодке к устью реки посмотреть, не пришло ли судно и планировать всевозможные развлечения, чтобы скоротать время.
Ночи были самой прекрасной частью суток, но постоянный свет казался нам поначалу ещё более странным, чем почти вечная тьма зимой. Мы никак не могли понять, когда закончился один день и начался другой, или когда пришло время ложиться спать. Нам казалось нелепым отходить ко сну ещё до захода солнца, но если мы этого не делали, то оно непременно вставало прежде, чем мы успевали заснуть, и тогда лежать в постели было так же нелепо, как и до захода. В конце концов мы устранили это противоречие: закрыли окна деревянными ставнями и зажгли внутри свечи, сумев таким образом убедить наши неверующие чувства, что сейчас ночь, хотя солнце снаружи сияло, как в полдень. Однако когда мы просыпались, возникала другая трудность. Мы сегодня ложились спать? Или это было вчера? А сколько сейчас времени? Сегодня, вчера и завтра – всё перемешалось, и мы перестали отличать одно от другого. Я поймал себя на том, что в течение одних суток делал две записи в своем дневнике, ошибочно полагая, что прошло два дня.
Как только лёд в Гижигинским заливе растаял, и можно было ожидать прибытия судов, майор Абаза приказал послать в устье реки несколько казаков с приказом днём и ночью следить за горизонтом и сразу же предупредить нас, если появятся корабли.
18 июня торговый бриг «Холли Джексон», принадлежавший У. Х. Бордману из Бостона, вошел в залив и, как только начался прилив, вошел в устье реки, чтобы разгрузиться. Это судно принесло нам первые известия из внешнего мира, которые мы получили более чем за одиннадцать месяцев, и его прибытие было встречено с большим энтузиазмом, как русскими, так и американцами. Половина деревни поспешила вниз по реке, и место высадки на несколько дней стало местом необычайного оживления. Никто на «Джексоне» не мог сказать нам ничего о судах нашей компании, за исключением того, что, когда он в марте отплывал из Сан-Франциско, они загружались и готовились к выходу в море. Корабль привез нам все припасы, которые мы оставили в Петропавловске прошлой осенью, а также большой груз чая, сахара, табака и прочего для торговли.
По своему опыту мы уже знали, что деньги плохо подходят для оплаты труда туземцев, кроме как в поселениях Охотск, Гижига и Анадырск, и что чай, сахар и табак во всех отношениях предпочтительнее, так как они употребляются повсеместно и имеют высокую цену в зимние месяцы. Рабочий или каюр, требующий за работу двадцать рублей в месяц, вполне удовлетворялся восемью фунтами чая и десятью фунтами сахара, а так как последнее обходилось нам всего в десять рублей, то мы экономили на этом вдвое! Ввиду этого майор Абаза решил использовать как можно меньше денег и оплачивать труд товарами по текущим ценам. Он закупил на «Джексоне» десять тысяч фунтов чая и двадцать тысяч фунтов кускового сахара, которые он поместил на хранение в казённые амбары, чтобы использовать предстоящей зимой вместо денег.
«Джексон» выгрузил всё, что намеревался оставить в Гижиге, и как только прилив стал достаточно высок, чтобы пересечь бар в устье реки, он отплыл в Петропавловск и снова оставил нас одних.
Глава XXXII
Скучная жизнь – Арктические комары – В ожидании доставки грузов – Сигналы о прибытии – Барк «Клара Белл» – Русский корвет «Варяг».
После отплытия «Джексона» мы стали с нетерпением ждать прибытия судов компании и окончания нашего долгого заточения в Гижиге. Восемь месяцев кочевой жизни привили нам вкус к приключениям и развлечениям, которые могли удовлетворить только постоянные перемещения, и как только новизна ощущения от праздности прошла, мы начали уставать от нашего вынужденного безделья и стали с нетерпением ждать работы. Мы перепробовали уже все развлечения Гижиги, прочитали все газеты, привезённые «Джексоном», обсудили их содержание до мельчайших подробностей, исследовали каждый фут земли в окрестностях поселения и испробовали всё, что могла придумать наша изобретательность, чтобы скоротать время, но… всё безрезультатно. Дни стали казаться бесконечными, долгожданные корабли всё не приходили, а комары и мошки приложили все старания сделать нашу жизнь невыносимой. Около десятого июля комар – это проклятие северного лета – поднимается из влажного мха долин и заводит свой пронзительный писк, чтобы сообщить всей живой природе о своем триумфальном воскрешении и готовности предоставить музыкальное сопровождение людям и животным на очень разумных условиях. Через три-четыре дня, если погода будет тихой и тёплой, вся атмосфера буквально заполнится облаками комаров, и с этого времени и до 10 августа они будут преследовать каждое живое существо с кровожадной настойчивостью, которая не знает покоя и не имеет чувства жалости. Бегство невозможно, а защита бесполезна; они всюду следуют за своими несчастными жертвами, и их неутомимая решительность преодолевает все препятствия, которые человеческая изобретательность может установить на их пути. К дыму любой интенсивности они относятся с презрительным безразличием, москитные сетки они либо обходят с флангов, либо берут приступом, и только похоронив себя заживо, человек сможет надеяться, наконец, избежать их неустанного преследования. Напрасно мы надевали на головы марлевые вуали и прятались под ситцевыми пологами. Множество наших крошечных противников было так велико, что некоторые из них рано или поздно всё равно находили открытое отверстие, и как раз в тот момент, когда мы уже считали себя защищёнными, мы подвергались новому нападению. Комары, я знаю, не входят в популярное представление о Сибири, но никогда ни в одной тропической стране я не видел их в таком огромном количестве, как в Северо-Восточной Сибири в июле месяце. Они делают тундру в некоторых местах совершенно непригодной для жизни и заставляют даже оленей искать укрытия в горах. В русских поселениях они мучают собак и скот до того, что последние начинают бешено скакать в совершенном безумии от боли и отчаянно бороться за место у дымокура. Далеко на севере, в низовьях реки Колымы, туземцы вынуждены в тихую, тёплую погоду окружать свои дома кольцом из дымных костров, чтобы защитить себя и домашних животных от непрестанного преследования комаров.
В начале июля все жители Гижиги, за исключением исправника и нескольких купцов, закрыли свои зимние дома и перебрались на летние рыбацкие заимки по берегам реки, чтобы дождаться прихода лосося. Найдя опустевшую деревню довольно скучной, Додд, Робинсон, Арнольд и я переехали в устье реки и снова поселились в пустом казённом складе, который мы занимали во время пребывания здесь «Холли Джексона».
Я не буду долго останавливаться на монотонной жизни, которую мы вели в течение следующего месяца. Всё это может быть заключено в четырёх словах: бездействие, тоска, комары и неустроенность. Ожидание судов был нашей единственной обязанностью, а борьба с комарами – единственным развлечением; и так как первое никогда не появлялось, а второе никогда не исчезало, то оба занятия были одинаково утомительны и безрезультатны. Двадцать раз в день мы надевали марлевые вуали, завязывали одежду на запястьях и лодыжках и с трудом взбирались на вершину высокого утеса для осмотра залива в поисках судов, и двадцать раз возвращались разочарованные в наши пустые, унылые жилища и вымещали свое неудовольствие на деревне, компании, кораблях и комарах. Мы не могли избавиться от ощущения, что выпали из великого потока жизни, что наши места в далёком деловом мире уже заняты и о самом нашем существовании забыто.
Главный инженер нашего предприятия клятвенно обещал, что корабли с людьми, материалами и припасами для немедленного начала работ будут в Гижиге и устье Анадыря уже в начале сезона, как только ледовая обстановка им позволит, но сейчас был уже август, а они ещё не появились. То ли они заблудились и погибли, или вообще всё предприятие прекратило свою деятельность, мы могли только догадываться, но так как неделя за неделей проходили, не принося никаких известий, мы постепенно потеряли всякую надежду и стали обсуждать не послать ли кого-нибудь в столицу Сибири, чтобы связаться с компанией по телеграфу.
Справедливости ради надо сказать, что майор Абаза за все эти долгие, утомительные месяцы ожидания ни разу не поддался унынию и не позволил себе усомниться в решительности компании продолжить работу. Может быть, корабли запаздывают или испытывают какие-нибудь трудности, но он не сомневался, что проект будет доведен до конца, и в течение всего лета продолжал делать все возможные приготовления для следующей зимней кампании.
В начале августа мы с Доддом, устав от ожидания судов, которые так и не пришли и которые, как мы уверились, никогда не придут, пешком вернулись в посёлок, оставив Арнольда и Робинсона нести вахту в устье реки.
Ближе к вечеру 14-го числа, когда я деловито наносил на карту результаты прошлогодних зимних исследований, в дом вбежал наш казачий слуга, и задыхаясь от спешки и волнения, закричал: «Пушка! Корабль!» Зная, что три пушечных выстрела были сигналами, которые Арнольд и Робинсон должны были сделать на случай, если судно войдет в залив, мы стремглав выбежали из дома и с нетерпением стали прислушиваться ко второму сигналу. Нам не пришлось долго ждать. Еще один слабый выстрел раздался со стороны маяка, за ним последовал третий, не оставляя места для сомнений в том, что долгожданные корабли прибыли. В большом волнении мы спешно спустили на воду лодку, уселись на медвежьи шкуры на дне и приказали нашим казакам-гребцам отчаливать. На каждой рыбацкой заимке, мимо которых мы проплывали, нам кричали: «Корабль! Корабль», а у последнего – Волынкино – где мы остановились на минутку, чтобы дать передышку нашим гребцам, нам сказали, что судно хорошо видно с холма и что оно бросило якорь около острова Речная Матуга примерно в двенадцати милях от устья реки. Убедившись, что это не ложная тревога, мы помчались вперед с удвоенной энергией и ещё через пятнадцать минут причалили в берегу залива. Арнольд и Робинсон вместе с лоцманом Кирилловым уже отправились на корабль на казённом вельботе, так что нам ничего не оставалось делать, как подняться к маяку на вершину утеса и с нетерпением ждать их возвращения.
Было уже далеко за полдень, когда мы получили сигнал о прибытии судна, а к тому времени, когда мы достигли устья реки, уже почти наступил закат. Корабль, представлявший собой довольно большой барк, стоял на якоре посреди залива примерно в двенадцати милях от нас, над ним развевался американский флаг. Мы видели вельбот, причаленный у кормы, и знали, что Арнольд и Робинсон должны быть на борту, но шлюпки все ещё висели на шлюпбалках, и никаких приготовлений к высадке на берег, казалось, не предпринималось. Исправник в Гижиге взял с нас обещание, что если судно окажется реальностью, а не миражом, мы подадим ему сигнал ещё тремя пушечными выстрелами. Ему слишком часто приходилось разочаровываться в ошибочных сообщениях о прибытии кораблей в этот порт, и он не собирался совершать путешествие к маяку на старой лодке, если наши разведданные полностью не подтвердятся. Так как в этом уже не могло быть никаких сомнений, мы снова зарядили старую ржавую пушку, набили её мокрой травой, чтобы усилить звук выстрела, и подали обещанные сигналы, которые эхом отдавались от каждого скалистого мыса вдоль берега и затихали отдалёнными раскатами далеко в море.
Через час появился исправник, и когда начало темнеть, мы все снова поднялись на вершину утеса, чтобы ещё раз взглянуть на корабль, прежде чем он скроется в темноте. На борту не было заметно никакой активности, а поздний час делал маловероятным, что Арнольд и Робинсон вернутся до утра. Поэтому мы вернулись в пустой казённый дом, и провели полночи в бесплодных гаданьях о причине опоздания судна и характере новостей, которые оно принесло.
С первыми утренними лучами мы с Доддом взобрались на вершину утеса, чтобы убедиться, что корабль не исчез под покровом ночи, как «Летучий Голландец», и не оставил нас оплакивать очередное разочарование. Но для опасений не было оснований. Мало того, что барк всё ещё стоял на том же месте, так ночью к нему присоединился ещё кто-то. Большой трехмачтовый пароход водоизмещением где-то в две тысячи тонн, лежал в дрейфе неподалеку, а в нескольких милях от него виднелись три лодки, быстро приближавшиеся к устью реки. Это открытие привело нас в совершенное волнение! Додд бросился вниз к казарме, крича майору, что в заливе стоит пароход и что лодки находятся уже милях в пяти от нас. Через несколько минут мы все собрались на самой высокой точке утёса, размышляя о таинственном пароходе, заставшем нас врасплох, и наблюдая за приближением лодок. Самая большая из них находилась теперь в пределах трёх миль, и наши бинокли позволяли нам различить в длинном и ровном взмахе её весел экипаж военного корабля, на руле – русских офицеров с их своеобразными погонами. Пароход был, очевидно, большим военным кораблём, но что привело его в эту отдаленную, безлюдную часть мира, мы не могли понять.
Еще через полчаса две лодки поравнялись с нашим утёсом, и мы спустились на берег, чтобы встретить их. Волнение, которое нас охватило, трудно себе представить. Четырнадцать месяцев прошло с тех пор, как мы последний раз имели известия из дома, и перспектива получить письма и снова приступить к работе была достаточным оправданием для такого волнения. Самая маленькая лодка первой подошла к берегу, и когда её днище зашуршало по песчаному берегу, из неё выскочил офицер в синей морской форме и представился капитаном Саттоном с барка Русско-Американской телеграфной компании «Клара Белл», прибывшего за два месяца пути из Сан-Франциско, с людьми и материалами для строительства линии. «Где вы были всё лето? – спросил майор, пожимая руку капитану, – Мы ждали вас с июня и уже почти решили, что работа прекращена». Капитан Саттон ответил, что все суда компании поздно вышли из Сан-Франциско, и что он также был задержан на некоторое время в Петропавловске по обстоятельствам, изложенным им в письмах.
– Что это за пароход стоит на якоре возле «Клары Белл»? – спросил майор.
– Это русский корвет «Варяг» из Японии.
– Но что она здесь делает?
– Ну, – сказал капитан с улыбкой, – это вы должны знать, сэр. Насколько я понимаю, он подчиняется вам. Я думаю, что российское правительство поручило ему оказать содействие в строительстве линии; по крайней мере, так мне сказали, когда мы встретились с ним в Петропавловске. У него на борту русский комиссар и корреспондент «Нью-Йорк Геральд».
Это была неожиданная новость. Мы слышали, что Военно-морским ведомствам России и США было поручено направить корабли в Берингово море для оказания помощи компании в проведении изысканий и прокладке кабеля между американским и сибирским побережьями, но мы не ожидали увидеть эти суда в Гижиге. Одновременное прибытие барка с грузом, парового корвета, русского комиссара и корреспондента «Нью-Йорк Геральд» выглядело, конечно, весьма обнадёживающе, и мы поздравляли себя и друг друга с улучшением перспектив Сибирской экспедиции.



