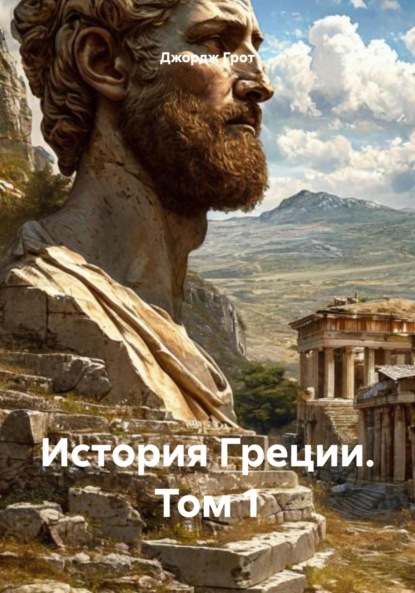
Полная версия:
История Греции. Том 1
Этот рассказ о том, что дорийцы некогда были обитателями (или главными обитателями) территории между рекой Ахелой и северным берегом Коринфского залива, по крайней мере, больше соответствует фактам, подтверждённым историческими свидетельствами, чем легенды, приведённые у Геродота, который изображает дорийцев изначально находящимися во Фтиотиде; затем перешедшими под предводительством Дора, сына Эллина, в Гистиэотиду, у гор Оссы и Олимпа; далее, изгнанными кадмейцами в область Пинда; оттуда перебравшимися в Дриопиду, на гору Эту; и наконец, оттуда – в Пелопоннес [228].
Общепринятая [стр. 103] история гласила, что великие дорийские поселения в Пелопоннесе были созданы вторжением с севера и что завоеватели переправились через залив из Навпакта – утверждение, которое, хотя и спорно в отношении Аргоса, кажется весьма вероятным для Спарты и Мессении.
То, что имя дорийцев охватывало гораздо больше, чем жителей незначительного тетраполиса собственно Дориды, должно предполагаться, если мы верим, что они завоевали Спарту и Мессению. И масштаб самого завоевания, и переход значительной их части из Навпакта согласуются с легендой, приведённой Аполлодором, где дорийцы представлены как главные обитатели северного берега залива.
Утверждения, которые мы находим у Геродота о ранних миграциях дорийцев, считались обладающими большей исторической ценностью, чем рассказы мифографа Аполлодора. Но оба в равной степени являются легендарными, тогда как краткие указания последнего, кажется, лучше согласуются с фактами, которые позже подтверждаются историей.
Уже упоминалось, что генеалогия, делающая Эола, Ксуфа и Дора сыновьями Эллина, восходит к «Каталогу» Гесиода; вероятно, также и та, что называет Эллина сыном Девкалиона. Этлий тоже фигурирует у Гесиода; был ли Амфиктион среди них – доказательств нет [229]. Они не могли быть введены в легендарную генеалогию до тех пор, пока Олимпийские игры и Амфиктиония не приобрели установленного превосходства и всеобщего почитания в Греции.
Относительно Дора, сына Эллина, мы не находим ни легенд, ни легендарной генеалогии; о Ксуфе известно лишь немного больше, чем история Креусы и Иона, которая естественнее вписывается в аттические мифы.
Однако Ахей, представленный здесь как сын Ксуфа, в других сказаниях появляется с совершенно иным происхождением. Согласно утверждению, которое мы находим у Дионисия Галикарнасского, Ахей, Фтий и Пеласг – сыновья Посейдона и Лариссы. Они переселяются из Пелопоннеса в Фессалию и делят фессалийские земли между собой, давая свои именá основным областям. Их потомки в шестом поколении были изгнаны из этой страны вторжением Девкалиона во главе с куретами и лелегами [230].
Это была история тех, кто хотел дать эпонима ахейцам южных районов Фессалии. Павсаний достигает той же цели иным способом, представляя Ахея, сына Ксуфа, вернувшимся в Фессалию и занявшим часть, на которую имел право его отец. Затем, чтобы объяснить, почему ахейцы были в Спарте и Аргосе, он рассказывает, что Архандр и Архител, сыновья Ахея, вернулись из Фессалии в Пелопоннес и женились на двух дочерях Даная. Они приобрели большое влияние в Аргосе и Спарте и дали народу имя ахейцев в честь своего отца Ахея [231].
Еврипид также значительно отклоняется от гесиодовской [стр. 105] генеалогии в отношении этих эпонимов. В драме «Ион» он описывает Иона как сына Креусы от Аполлона, но усыновлённого Ксуфом. По его версии, настоящие сыновья Ксуфа и Креусы – Дор и Ахей [232], эпонимы дорийцев и ахейцев внутри Пелопоннеса. И ещё более важное различие в том, что он вообще опускает Эллина – делая Ксуфа ахейцем по происхождению, сыном Эола, который является сыном Зевса [233].
Это тем более примечательно, что в сохранившихся фрагментах двух других драм Еврипида – «Меланиппа» и «Эол» – мы находим упоминание Эллина как отца Эола и сына Зевса [234]. Даже для образованной публики самого просвещённого города Греции колебания и расхождения в этих мифических генеалогиях, видимо, не были ни удивительными, ни оскорбительными.
Глава VI. Эолиды, или сыновья и дочери Эола.
Если двое сыновей Эллина, Дор и Ксуф, представлены в мифологических повествованиях сравнительно мало, то третий сын, Эол, с лихвой восполняет этот пробел. От него мы переходим к его семи сыновьям и пяти дочерям, погружаясь в обилие героических и поэтических событий.
Однако, рассматривая эти обширные мифические семьи, необходимо отметить, что легендарный мир Греции, каким он предстает перед нами, обладает степенью симметрии и связности, изначально ему не свойственной. Ведь древние баллады и сказания, которые пелись или [стр. 106] рассказывались на многочисленных празднествах Греции, каждое на свою особую тему, утрачены; религиозные повествования, которые экзегеты каждого храма хранили в памяти, объясняя особенности местных обрядов и обычаев своего города или дема, исчезли. Все эти первоначальные элементы, изначально разрозненные и несвязанные, скрыты от нашего взора, и нам доступен лишь совокупный результат, сформированный множеством сливающихся потоков преданий и соединённый усилиями позднейших поэтов и логографов. Даже самые ранние деятели этой работы по связыванию и систематизации – поэты гесиодовского круга – почти не сохранились. Наши сведения о греческой мифологии почерпнуты главным образом из прозаических логографов, следовавших за ними, и в их трудах, где непрерывность повествования была важнее всего, мифические персонажи вплетены в ещё более разветвлённые родословные, а изначальная разрозненность легенд скрыта ещё искуснее. Гекатей, Ферекид, Гелланик и Акусилай жили в ту эпоху, когда представление об Элладе как о едином целом, состоящем из братских народов, глубоко укоренилось в сознании каждого грека, а идея о нескольких великих родах, широко разветвившихся от общего корня, была популярнее и приемлемее, чем мысль о независимом происхождении каждого отдельного племени.
Эти логографы, впрочем, тоже утрачены, но Аполлодор и различные схолиасты, наши главные непосредственные источники сведений о греческой мифологии, заимствовали в основном у них. Таким образом, легендарный мир Греции известен нам через них, в сочетании с драматическими и александрийскими поэтами, их латинскими подражателями и ещё более поздними схолиастами – за исключением разве что отдельных проблесков, которые мы находим в «Илиаде» и «Одиссее», а также в сохранившихся фрагментах гесиодовского цикла, слишком часто демонстрирующих непримиримые противоречия при сопоставлении с рассказами логографов.
Хотя Эол (как уже упоминалось) сам назван сыном Эллина наряду с Дором и Ксуфом, легенды об эолидах не только не зависят от этой генеалогии, но и не всегда согласуются с ней. Более того, имя Эола в предании древнее, чем имя Эллина, поскольку [стр. 107] оно встречается и в «Илиаде», и в «Одиссее».[235] Одиссей в подземном мире видит прекрасную Тиро, дочь Салмонея, супругу Кретея, сына Эола.
Эол представлен как царствовавший в Фессалии. Его семью сыновьями были Кретей, Сизиф, Афамант, Салмоней, Деион, Магнет и Периер; пять дочерей – Канака, Алкиона, Пейсидика, Калика и Перимеда. Предания этого рода отличаются, кажется, постоянным присутствием бога Посейдона, а также необычайной склонностью героев-эолидов к надменности и дерзости, побуждающей их оскорблять богов притязаниями на равенство, а иногда даже открытым неповиновением. Вероятно, культ Посейдона был широко распространён и особенно почитаем среди народа, породившего эти легенды.
Раздел I. – Сыновья Эола.Салмонея в «Одиссее» не называют сыном Эола, однако в «Каталоге женщин» Гесиода и у более поздних логографов он фигурирует именно как его потомок. Его дочь Тиро воспылала страстью к реке Энипею, прекраснейшей из всех земных рек: она часто приходила на её берега, и там бог Посейдон, приняв облик речного божества, сумел овладеть ею. Плодом этой связи стали близнецы Пелий и Нелей. Позже Тиро выдали замуж за её дядю Кретея, ещё одного сына Эола, от которого она родила Эсона, Ферета и Амифаона – все эти имена известны в героических преданиях.[236] Приключения Тиро легли в основу трогательной драмы Софокла, ныне утраченной. Её отец женился во второй раз на женщине по имени Сидеро, чьи жестокие наветы заставили его наказать дочь за связь с Посейдоном. Ей остригли роскошные волосы, избили и подвергли[стр. 108] иным мучениям, а затем заточили в смрадном подземелье. Не имея возможности заботиться о двух младенцах, она была вынуждена сразу после их рождения оставить их в маленькой лодке на реке Энипей. Дети были спасены благодаря доброте пастуха, а когда выросли, освободили мать и отомстили за её страдания, предав смерти жестокосердную Сидеро.[237] Эта трогательная история о долгом заточении Тиро у Софокла заменяет гомеровский сюжет, согласно которому она стала женой Кретея и матерью многочисленного потомства.[238]
Её отец, нечестивый Салмонея, в своих поступках проявлял неслыханное высокомерие перед богами. Он присвоил себе имя и титул самого Зевса и приказал приносить себе жертвы, предназначенные громовержцу. Кроме того, он имитировал гром и молнии, разъезжая на колеснице с прикреплёнными к ней медными котлами и метая зажжённые факелы в небо. Такое нечестие навлекло на него гнев Зевса, который поразил его перуном, стерев с лица земли основанный им город вместе со всеми жителями.[239]
Пелий и Нелей, «оба могучие слуги великого Зевса», вступили в распрю из-за царства Иолка в[стр. 109] Фессалии. Пелий завладел им и жил в достатке и процветании, но навлёк на себя гнев богини Геры, убив Сидеро прямо на её алтаре, и последствия этого проявились в его отношениях с племянником Ясоном.[240]
Нелей покинул Фессалию, отправился в Пелопоннес и основал там царство Пилос. Он добился руки прекрасной Хлориды, дочери Амфиона, царя Орхомена, заплатив богатые дары за право жениться на ней. От этого брака у него родилось двенадцать сыновей и лишь одна дочь[241] – прекрасная и пленительная Пера, руки которой добивались женихи со всех окрестностей. Но Нелей, «надменнейший из смертных»,[242] отвергал их притязания: он соглашался отдать дочь лишь тому, кто доставит ему быков Ификла из Филaки в Фессалии. Эти драгоценные животные тщательно охранялись как пастухами, так и псом, к которому не мог приблизиться ни человек, ни зверь. Тем не менее Биант, сын Амифаона и племянник Нелея, страстно влюблённый в Перу, уговорил своего брата Мелампа отправиться ради него на этот опасный подвиг, несмотря на пророческое знание последнего, предупреждавшее, что хотя он в конце концов добьётся успеха, победа достанется ему ценой тяжкого плена и страданий. Меламп, попытавшись похитить быков, был схвачен и брошен в темницу; оттуда его спасло лишь дарование прорицателя. Понимая язык червей, он услышал, как те, копошась в балках над его головой, переговаривались, что те почти прогрызены и скоро обрушатся. Он сообщил об этом страже и потребовал перевести его в другое место, предупредив, что крыша вот-вот рухнет и похоронит их. Предсказание сбылось, и Филaк, отец Ификла,[стр. 110] поражённый этим проявлением пророческого дара, немедленно велел освободить его. Далее он спросил совета о причине бесплодия своего сына Ификла, пообещав отдать быков, если Меламп найдёт способ даровать ему потомство. Коршун открыл Мелампу нужное средство, и вскоре у Ификла родился сын Подарк. Таким образом Меламп получил быков, доставил их в Пилос и добился для брата руки Перы.[243] О том, как этот великий герой легенд, чудесным образом исцелив обезумевших дочерей Прета, приобрёл власть в Аргосе и для себя, и для Бианта, уже рассказано в предыдущей главе.
Из двенадцати сыновей Нелея по меньшей мере один – Периклимен – наряду с незабвенным Нестором – прославился как подвигами, так и чудесными дарами. Посейдон, божественный прародитель их рода, даровал ему способность по желанию принимать облик любой птицы, зверя, пресмыкающегося или насекомого.[244] Эти умения пригодились ему, и он какое-то время успешно использовал их, защищая свою семью от страшного гнева Геракла, который, разгневанный отказом Нелея совершить над ним обряд очищения после убийства Ифита, напал на Нелеидов в Пилосе. Благодаря своим необыкновенным способностям Периклимен долго сопротивлялся, но роковой час настал, когда Афина, вмешавшись в битву, указала Гераклу на него, когда тот в облике пчелы сидел на колеснице героя. Он был убит, и Геракл одержал полную победу, одолев Посейдона, Геру, Ареса и Аида и даже ранив последних троих, которые помогали в обороне.[стр. 111] Одиннадцать сыновей Нелея пали от его руки, а Нестор, тогда ещё юноша, уцелел лишь потому, что случайно находился в это время в Гере́не, вдали от отчего дома.[245]
Гордый род Нелеидов теперь ограничивался одним Нестором, но и одного Нестора хватило, чтобы поддержать его славу. Он предстаёт не только как защитник и мститель за Пилос против наглых и алчных эпейцев из Элиды, но и как союзник лапифов в их ужасной битве с кентаврами, как спутник Тесея, Пирифоя и других великих героев, живших до Троянской войны. В глубокой старости его некогда изумительное мастерство владения оружием, конечно, угасло, но энергия не покинула его, а мудрость и влияние в советах лишь возросли. Он не только собирает различных греческих вождей для похода на Трою, объезжая области Эллады вместе с Одиссеем, но и принимает деятельное участие в самой осаде, оказывая Агамемнону неоценимую помощь. А после её завершения он оказывается одним из немногих греческих царей, вернувшихся в свои исконные владения, и предстаёт перед нами в почтенной и деятельной старости, окружённый детьми и подданными, – сидящим со скипетром власти на каменной скамье перед своим домом в Пилосе, – приносящим жертвы Посейдону, как некогда делал его отец Нелей, – и оплакивающим лишь гибель[стр. 112] любимого сына Антилоха, павшего вместе со многими другими доблестными воинами под Троей.[246] После Нестора род Нелеидов включает ничем не примечательные имена – Бор, Пентил и Андропомп – три поколения подряд вплоть до Меланфа, который во время вторжения Гераклидов на Пелопоннес покинул Пилос и удалился в Афины, где стал царем, о чем я расскажу далее. Его сын Кодр был последним афинским царем, а Нелей, один из сыновей Кодра, упоминается как главный предводитель так называемого ионийского переселения из Афин в Малую Азию.[247]
Доподлинно известно, что в историческую эпоху не только царский род Кодридов в Милете, Эфесе и других ионийских городах, но и некоторые знатнейшие семьи даже в самих Афинах возводили свою героическую родословную через Нелеидов к Посейдону. И легенды о Несторе и Периклимене пользовались особой популярностью среди греков, разделявших такие верования. Кодриды в Эфесе и, вероятно, в некоторых других ионийских городах долгое время сохраняли титул и почетные привилегии царей, даже утратив реальную власть. Они воплощали ту же связь – одновременно религиозного поклонения и мифического происхождения – с Нелеидами и Посейдоном, какую вожди эолийских колоний имели с Агамемноном и Орестом. Афинский тиран Писистрат был назван в честь сына Нестора из «Одиссеи», и мы можем смело предположить, что героическое почитание Нелеидов так же тщательно поддерживалось в ионийском Милете, как и в италийском Метапонте.[248]
Проследив линию Салмонея и Нелея до конца ее легендарного пути, мы можем теперь вернуться к линии другого сына Эола – Крефея, чей род был не менее прославлен благодаря представленным в нем героическим именам. Алкестида, прекраснейшая из дочерей Пелиаса,[249] была обещана своим отцом в жены тому, кто сможет привести ему укрощенных льва и вепря, впряженных в одну упряжку. Адмет, сын Ферета, эпонима Фер в Фессалии, и, следовательно, внук Крефея, с помощью Аполлона сумел выполнить это условие и получить ее руку.[250] В то время Аполлон служил у него рабом (наказанный Зевсом за убийство Киклопов) и пас стада и коней с таким успехом, что снарядил Евмела (сына Адмета) на Троянскую войну лучшими конями в греческом войске. Хотя на него возлагали даже унизительные работы, вроде перемалывания зерна,[251] он сохранил благодарную и дружескую привязанность к своему смертному господину и вмешался, чтобы спасти его от гнева богини Артемиды, разгневанной тем, что ее имя не было упомянуто в свадебных жертвоприношениях.
Адмет был близок к преждевременной смерти, когда Аполлон, умолив Мойр, добился для него условия: его жизнь могла быть продлена, если кто-то добровольно согласится умереть вместо него. Его отец и мать отказались принести эту жертву, но преданная любовь его жены Алкестиды побудила ее с радостью принять смерть, чтобы спасти мужа.[p. 114] Она уже испустила дух, когда Геракл, старинный друг и гость Адмета, прибыл в первый час траура; его сила и отвага позволили ему вырвать умершую Алкестиду из рук Танатоса (Смерти) и вернуть ее живой безутешному супругу.[252]
Сын Пелиаса, Акаст, приютил Пелея, когда тот был вынужден бежать из своей страны после невольного убийства Эвритиона. Жена Акаста, Кретеида, воспылав страстью к Пелею, сделала ему предложение, но он отверг ее. Разъяренная отказом и решив погубить его, она убедила мужа, что Пелей пытался овладеть ею. Тогда Акаст, отправившись с Пелеем на охоту в лесистые окрестности горы Пелион, похитил у него меч, выкованный и подаренный Гефестом, и оставил его безоружным, обрекая на гибель от рук кентавров или диких зверей. Однако благодаря помощи кентавра Хирона Пелей был спасен, и меч ему вернули. Вернувшись в город, он отомстил, убив и Акаста, и его коварную жену.[253]
Но среди всех легенд, связанных с именем Пелиаса, самой памятной остается история Ясона и похода аргонавтов. Ясон был сыном Эсона, внуком Крефея и, следовательно, правнуком Эола. Пелиас, обратившись к оракулу по поводу безопасности своего правления в Иолке, получил предостережение: ему следовало остерегаться человека, который явится к нему в одной сандалии. Во время празднества в честь Посейдона перед ним предстал Ясон, у которого одна нога была боса – он потерял сандалию, переходя разлившуюся реку Анавр. Пелиас сразу понял, что это и есть враг, о котором предупреждал оракул. Чтобы избежать угрозы, он поручил Ясону отчаянное предприятие – добыть и привезти в Иолк Золотое руно, шкуру того самого барана, который некогда перенес Фрикса из Ахайи в Колхиду и был там посвящен богу Аресу. Результатом этого повеления стал знаменитый поход корабля «Арго» и его экипажа, аргонавтов, собравших самых храбрых и знатных юношей Греции. Этот сюжет не может быть удобно включен в легенды об Эолидах и будет рассмотрен в отдельной главе.
Плавание «Арго» затянулось, и Пелиас, уверенный, что ни корабль, ни его команда не вернутся, предал смерти отца и мать Ясона, а также их малолетнего сына. Эсону, отцу Ясона, позволили выбрать свою смерть, и он выпил бычью кровь, совершая жертвоприношение богам. Однако в конце концов Ясон вернулся, привезя не только золотое руно, но и Медею, дочь колхидского царя Ээта, ставшую его женой, – женщину, известную своими колдовскими умениями и хитростью, без помощи которой аргонавты не смогли бы добиться успеха.
Хотя Ясон был полон решимости отомстить Пелиасу, он понимал, что добиться этого можно лишь хитростью. Он остался со своими спутниками недалеко от Иолка, а Медея, притворившись беглянкой, спасающейся от его жестокости, одна вошла в город и проникла к дочерям Пелиаса. Демонстрируя свои магические способности, она быстро подчинила их волю. Например, она выбрала из стад Пелиаса древнего барана, разрубила его, сварила в котле с травами и превратила в молодого и сильного ягненка.[254] Дочерям Пелиаса внушили, что их старый отец может быть так же омоложен. Убежденные в этом, они собственными руками разрубили его на части и бросили в котел, надеясь, что Медея произведет на него такое же волшебное действие.
Медея притворилась, что для завершения обряда необходимо воззвание к луне. Поднявшись на крышу дома, якобы для произнесения заклинания, она подала условленный огненный сигнал аргонавтам, и Ясон с товарищами ворвались в город, завладев им. Довольный местью, Ясон передал власть в Иолке Акасту, сыну Пелиаса, а сам удалился с Медеей в Коринф. Так богиня Гера удовлетворила свою давнюю ненависть к Пелиасу: она неусыпно покровительствовала Ясону и провела «всеми прославленный» «Арго» через бесчисленные опасности, чтобы Ясон привез Медею, которая погубит его дядю.[255] Введенные в заблуждение дочери Пелиаса добровольно удалились в изгнание в Аркадию, а его сын Акаст устроил пышные погребальные игры в честь покойного отца.[256]
Ясон и Медея удалились из Иолка в Коринф, где прожили десять лет. Их детьми были Медей, которого кентавр Хирон воспитывал в окрестностях горы Пелион,[257] а также Мермер и Фер, родившиеся в Коринфе. После десяти лет благополучной жизни там Ясон воспылал страстью к Главке, дочери коринфского царя Креонта.[258] Поскольку её отец согласился выдать её замуж, он решил развестись с Медеей, которой было приказано немедленно покинуть Коринф. Оскорблённая и жаждущая мести, Медея приготовила отравленное одеяние и отправила его в качестве свадебного подарка Главке. Та бездумно приняла его и надела, после чего тело несчастной невесты сгорело дотла. Креонт, её отец, пытавшийся сорвать с неё пылающую одежду, разделил её участь и погиб. Ликующая Медея сбежала на колеснице с крылатыми змеями, предоставленной ей её дедом Гелиосом, и нашла убежище у Эгея в Афинах, от которого родила сына по имени Мед. Своих малолетних детей она оставила в священном храме Геры Акрейской, надеясь, что защита алтаря обеспечит их безопасность. Однако коринфяне, разгневанные убийством [стр. 118] Креонта и Главки, вытащили детей из-под защиты алтаря и умертвили их. Несчастный Ясон погиб под обломком собственного корабля «Арго», который рухнул на него, когда он спал под ним.[259] Корабль был вытащен на берег, как это обычно делали древние.
Первое поселение в Эфире (или Коринфе) основал Сизиф, ещё один из сыновей Эола, брат Салмонея и Крефея.[260] Эолид Сизиф прославился как беспрецедентный мастер хитрости и обмана. Он перекрыл дорогу через перешеек и убивал путников, скатывая на них огромные камни с гор. Он превзошёл даже самого Автолика, сына Гермеса, знаменитого вора, который унаследовал от отца способность менять цвет и форму украденных вещей так, что их невозможно было узнать. Сизиф, пометив своих овец под копытами, разоблачил Автолика, когда тот украл их, и заставил вернуть добычу. Его проницательность раскрыла связь Зевса с нимфой Эгиной, дочерью речного бога Асопа. Зевс увёз её на остров Энона (позже названный Эгиной), и Асоп, отчаянно пытаясь её найти, спросил у Сизифа, куда она исчезла. Тот раскрыл ему правду при условии, что Асоп создаст источник воды на вершине Акрокоринфа. Разгневанный Зевс за это откровение обрёк Сизифа в Аиде на вечную муку – вкатывать на гору огромный камень, который, едва достигнув вершины, снова скатывался вниз, несмотря на все его усилия.[261]
В применении эолидской генеалогии к Коринфу первым именем выступает Сизиф, сын Эола. Однако древний коринфский поэт Евмел [стр. 120] создал для родного города героическую генеалогию, независимую как от Эола, так и от Сизифа. Согласно ей, Эфира, дочь Океана и Тефиды, была первой владелицей коринфских земель, а Асоп – сикионских. Оба региона были отданы богу Гелиосу в урегулировании спора между ним и Посейдоном Бриареем. Гелиос разделил территорию между двумя сыновьями – Ээтом и Алоеем: первому достался Коринф, второму – Сикион. Ээт, повинуясь оракулу, уехал в Колхиду, оставив свои земли под управлением Буна, сына Гермеса, с условием, что они будут возвращены, если он или его потомки вернутся. После смерти Буна и Коринф, и Сикион перешли к Эпопею, сыну Алоэя, человеку порочному. Его сын Марафон, не вынеся его правления, уехал в Аттику, но вернулся после смерти отца и унаследовал его земли, которые затем разделил между своими сыновьями – Коринфом и Сикионом, давшими названия этим областям. Коринф умер бездетным, и тогда коринфяне призвали Медею из Иолка как наследницу Ээта. Так она вместе с мужем Ясоном получила власть над Коринфом.[262]
Эта легенда Евмела, одного из первых генеалогических поэтов, сильно отличающаяся от версии Неофрона или Еврипида, была принята Симонидом и, по-видимому, Феопомпом.[263] События в ней выстроены так, чтобы обосновать верховенство Медеи: уход Ээта и условия передачи власти были придуманы, чтобы дать ей законные права на трон. Коринфяне воздавали Медее и её детям божественные или героические почести вместе с Герой Акрейской,[264] и этого было достаточно, чтобы [стр. 121] Медея заняла важное место в генеалогии, составленной коринфским поэтом, который смешивал богов, героев и людей в истории родного города.
Согласно легенде Евмела, Ясон стал (благодаря Медее) царём Коринфа, но она тайно прятала их детей в храме Геры, надеясь, что богиня сделает их бессмертными. Когда Ясон раскрыл её замысел, он в гневе покинул её и вернулся в Иолк. Медея, разочарованная неудачей, также уехала, оставив трон Сизифу, к которому, по версии Феопомпа, она испытывала привязанность.[265] Другие легенды гласят, что Зевс воспылал страстью к Медее, но она отвергла его из страха перед гневом Геры, которая в награду за верность даровала бессмертие её детям.[266] Кроме того, Медея по особому повелению Геры воздвигла знаменитый храм Афродиты в Коринфе. Эти сказания явно связаны с храмом Геры, и можно предположить, что изначально миф о Медее был независим от истории Сизифа, но позже был искусственно встроен в неё, чтобы удовлетворить потомков эолидов, считавших себя его наследниками.

