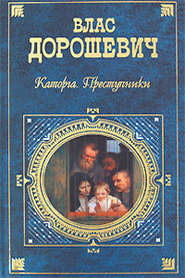скачать книгу бесплатно
За него ухватились как за находку.
Господина Крамаренко назначили на три года «техническим надзирателем» за тюремными рыбными промыслами.
Поручили ему исследования по рыбному делу на Сахалине.
И в результате этих исследований помогли выстроить собственный рыбный завод.
Астраханский конторщик и свадебный скрипач превратился в крепостного владельца.
Отпущенные ему в помощь, за грошовую плату казне, каторжные строили ему завод, погреба, подвалы.
Правда, погреба мало на что годятся, рыба в них портится, подвалы для засола рыбы текут, и тузлук из них уходит. Но это уж вина не каторжных, отданных во временное крепостное пользование господину Крамаренко, – это вина самого скрипача-архитектора.
Первые опыты господина Крамаренко были довольно печальны. С первых же шагов он сильно и основательно шлепнулся, можно сказать, на гладком месте.
Первый ход селедки он пропустил. Второй хоть и не прозевал, но толку не вышло: тузлук вытек, и рыбу пришлось обратно выкинуть в море. При третьем ходе хоть и получилась наконец желанная селедка, но такая дрянь, что никто брать не хотел.
Господин Крамаренко теперь «учится». Да и чего ж не учиться? Даровой лес и за гроши доставшийся труд каторжных. В виде маленькой ежегодной субсидии – 1000 рублей вперед за рыбу, которую господин Крамаренко обязан поставить в тюрьму. Потом, впрочем, эту субсидию от господина Крамаренко, кажется, отняли, убедившись, что это за рыбопромышленник. В «Сахалинском календаре» вы найдете статью господина Крамаренко, в которой он очень громко и весьма справедливо выступает против «хищничества» японских рыбопромышленников.
На самом деле! Такую ценную рыбу, как сельдь, они ловят на Сахалине стадами, варят в котлах и превращают в удобрительные туки.
Разве это не варварство? Разве не хищничество?
Что же делает сам господин Крамаренко?
Ловит сельдь, варит ее и готовит из нее тук, то есть занимается тем же самым хищничеством, против которого так горячо и справедливо выступает. Весь его игрушечный комический «засол» рыбы не дает ни гроша, простая игра для отвода глаз.
Главное его дело – он и сам не скрывает – «туковое дело». Приготавливая удобрительный тук из селедки, он продает его тем же самым японцам. Вся разница состоит только в том, что казна с «поощряемого» господина Крамаренко получает гораздо меньше, чем получала бы с арендаторов-японцев. К хищничеству тут следует еще добавить и «обставление» казны. Промыслы господина Крамаренко ничего не дают населению, потому что, сам подставное лицо японцев, господин Крамаренко работает исключительно с японскими рабочими.
В чем же, однако, секрет такого быстрого, крупного и ничем, казалось бы, не заслуженного успеха этого виртуоза? – спросите вы.
Очень просто.
В том, что на Сахалин мало кто едет по доброй воле.
Каждый доброволец-предприниматель, как редкость, здесь встречается с распростертыми объятиями, находит поддержку и помощь.
Жаль только, что эти предприниматели-то…
Нет спора, край многим и многим богатый, но он требует людей знания, людей дела, а не кулаков-эксплуататоров, не свадебных скрипачей, готовых схватиться за что угодно, не людей «без определенных занятий, средств и образа жизни»…
А там исключительно «орудуют» или неудачники, потерпевшие в России крушения на всех поприщах, или хищники, – какие это плохие устроители благосостояния действительно «несчастных» острова Сахалин.
III. «Спиртовая торговля»
Если Сахалин, как в шутку называют его местные чиновники, «совершенно особое, самостоятельное государство», то Корсаковский округ, непроходимыми тундрами и тайгой отрезанный от административного центра, поста Александровского, представляет собой уже «государство в государстве», «Сахалин на Сахалине».
Здесь свои особые порядки, обычаи, законы, даже своя особая денежная единица.
Наши обыкновенные денежные знаки в Корсаковске упразднены. Вся торговля, все дела ведутся на спирте.
Денежная единица Корсаковского округа – бутылка спирта, даже не бутылка спирта, а записка на право купить бутылку спирта. Чтобы понять эту «девальвацию», очень выгодную для многих, надо знать условия продажи спирта на Сахалине.
Спиртом имеет право торговать только колонизационный, он же экономический, фонд.
Невозбранно и в каком угодно количестве спирт могут покупать только люди свободного состояния, то есть чиновники.
Поселенцам же разрешается покупать спирт перед праздниками или по запискам лиц свободного состояния.
«Отпустить такому-то бутылку спирта. Такой-то».
В фонде бутылка спирта стоит 1 руб. 25 коп., рыночная ее цена колеблется от 2 р. 50 коп. до 6 рублей.
Поселенец, получив такую записку, выкупает на свои деньги в фонде бутылку спирта и перепродает ее с прибылью поселенцам же и каторге.
А то просто перепродается сама записка. Записки ходят как ассигнации. Бывают даже подложные!
На эти записки чиновники покупают у поселенцев соболей – по записке за шкуру, – этими записками платят за поставленные продукты, за сделанные работы.
В сущности, таким образом они получают все даром, предоставляя только поселенцам возможность заниматься торговлей водкой и спаивать каторгу.
Смотритель поселений Бестужев, лично для себя не применявший этого «порядка», как я уже говорил, пробовал зато применить этот «порядок» к казенным работам.
Он быстро построил, без копейки денег, церковь, школу, мастерские, дом для приезжающих чиновников, – за все расплачиваясь записками.
Он рассуждал так:
– Если господа служащие делают так, почему же не делать казне? Пусть уж лучше в казенный карман идет, чем в карманы господ служащих.
Совершенно забывая, что «quod l icet bovi – non l icet Iove».
К сожалению, изобретательный финансист не рассчитал одного.
Что с появлением на «рынке» массы записок цена на них упадет.
Так и случилось.
Работавшие поселенцы разорились вконец: думая получить за записки рубли, они получили гроши.
Среди нищенствующих в Корсаковске пришлых поселенцев мне много приходилось встречать жертв этой оригинальной финансовой затеи.
Я не стану уже говорить о влиянии этой «спиртовой системы» на нравственность поселенцев.
За спирт в Корсаковске продается и покупается все – до сожительницы или дочери включительно.
Но какое же уважение может иметь каторга к чиновникам, даром покупающим ее труд, и чиновникам, торгующим спиртом?
А на Сахалине так много говорят о необходимости поддерживать престиж.
– Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна!
Как будто «престиж» создается и поддерживается одними наказаниями.
IV. Бирич
Бирич – мой сосед по комнате. Он живет у того же ссыльнокаторжного Пищикова, у которого остановился и я.
Он – компаньон одного из крупных рыбопромышленников и ужасно любит говорить о том, какие огромные убытки он терпит благодаря дурной погоде.
– Помилте-с. Законтрактованные пароходы с японцами-с не идут. Тут каждый день дорог-с. Не нынче – завтра селедка пойдет. Ведь это мне тысячными убытками пахнет-с. Ведь я тысячи могу потерять-с.
Он ужасно любит подчеркнуть это слово – «тысячи».
Бирич – человек средних лет, маленький, невзрачный, одет не без претензии на франтовство, по жилету «пущена» цепь, на которую смело можно бы привязать не часы, а собаку.
Ото всей его особы ужасно веет не то штабным писарем, не то фельдшером, «вышедшим в люди».
Так оно впоследствии и оказалось.
При встрече, при прощанье он обязательно по нескольку раз жмет вам руку, словно это доставляет ему особое удовольствие – здороваться за руку.
Когда «заложит за галстук» – а это с ним случается часто, – Бирич становится особенно невыносим своей назойливостью и необыкновенной развязностью.
Он является без спроса, говорит без умолку и в разговоре принимает позы одна свободнее другой.
Собственно говоря, он даже не столько говорит, сколько позирует.
То раскинется на стуле и заложит ногу за ногу так, что они у него чуть не на столе. То встанет и поставит ногу на стул.
«Вот человек, который стремится к тому, чтобы ноги у него были непременно выше головы», – думал я, улыбаясь про себя.
То он хлопнет вас по колену. То возьмет за борт сюртука. То бросит свой окурок в ваше блюдечко.
И все это решительно без всякой надобности, просто, словно он каждую минуту хочет доказать вам, что он с вами на равной ноге и может вести себя непринужденно.
Эта мысль словно тешит его, доставляет ему невыразимое наслаждение.
Когда подопьет, Бирич особенно яростно принимается ругать ссыльнокаторжных.
Это, кажется, его главное занятие.
Право, с первого раза можно подумать, что у человека перерезали целую семью. Такая глубокая, непримиримая, яростная ненависть.
Бирич явился ко мне, прежде чем я даже успел устроиться в своей комнатке.
Несколько раз пожал мою руку, заявил, что очень рад «знакомству с образованным человеком», с первого же абцуга объявил мне, что у него жена институтка[14 - Дочь одной интеллигентной особы, приговоренной за поджоги. По окончании института она приехала к матери на Сахалин и здесь сделала такую «партию».] и живет на рыбных промыслах, рассказал про свои «тысячные убытки» и вызвался быть моим ментором.
– Я Сахалин как свои пять пальцев знаю. Вы только меня слушайте. Я вам все покажу. Увидите, что это за мерзавцы, за негодяи.
Когда Бирич говорит о каторге, он даже забывает прибавлять слово «ерик», которое прибавляет обыкновенно чуть не за каждым словом. До того его разбирает злость!
– Вы хорошенько их, негодяев, распишите! Чтобы знали, что это за твари! Распущены – ужас! Еще бы! Деликатничают с ними! «Жалеют» мерзавцев! Их жалеть! Драть их, негодяев, надо! Вот прежде господин Ливин был смотрителем или Ярцев-покойник, царство ему небесное, – драли их, – тогда и была каторга. А теперь – помилуйте! Какая это каторга? Разве это каторга? Издевательство над законом – и больше ничего.
– Да вы что… может быть, не потерпели ли через них какого-нибудь убытка? Может быть, работали они у вас?
Бирич даже вспыхнул весь.
– Я? Да чтоб с ними? Да спасет меня Господь и помилует!
Чтоб с этим народом имел дело?! Да в петлю лучше! Нет, у меня японцы – никого, кроме японцев, – помилуйте, разве можно с ними? Я в прошлом году попробовал было взять поселенцев – подряд у меня был на железную дорогу, на шпалы, – так жизни не был рад. Это такие негодяи, такие мерзавцы…
И т. д., и т. д., и т. д. Становилось тошно слушать, а отделаться от Бирича было невозможно.
Нравилось ему, что ли, со мной везде показываться, но только Бирич не отставал от меня ни на шаг.
Иду по делу, гулять – Бирич как тень. В каторжный театр пошел – Бирич и тут увязался, за место в первом ряду заплатил.
– Посмеемтесь! Нет, каковы твари, а? Будний день, а у них театры играют.
– Да ведь Пасха теперь.
– Для каторжных Пасха – три дня. По-настоящему бы один день надо, да уж так распустили, свободу дают. А они, негодяи, целую неделю. А? Как вам покажется? И это каторга? Поощрение мерзавцев, а не каторга. Жрут, пьют, ничего не делают, никаких наказаний для них нет…
В конце концов меня даже сомнение начало разбирать.
– Что-то ты, братец, уж очень каторгу ругать стараешься?
Странновато что-то…
Идем мы как-то с Биричем по главной улице, как вдруг из-за угла, неожиданно, лицом к лицу, встретился с нами начальник округа.
Бирич моментально отскочил в сторону, словно электрическим током его хватило, и не снял, а сдернул с головы фуражку.
Нет! Этого движения, этой манеры снимать шапку не опишешь, не изобразишь.
Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не изглаживается потом уж никогда.
По одной манере снимать шапку перед начальством можно сразу отличить бывшего ссыльнокаторжного в тысячной толпе.
Хотя бы со времени его каторги прошел десяток лет, и он пользовался бы уже всеми «правами».
Вся прошлая история каторги в этом поклоне – то прошлое, когда зазевавшемуся или не успевшему при встрече снять шапку каторжному говорили:
– А пойди-ка, брат, в тюрьму. Там тебе тридцать дадут.
Начальник округа прошел.
Бирич почувствовал, что я понял все, и сконфуженно смотрел в сторону.