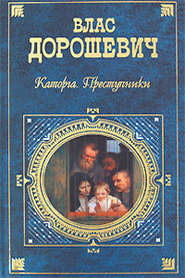скачать книгу бесплатно
– Жить здесь страшно. Жуть, оторопь берет. Вы избу по соседству изволили видеть – заколочена? Писарь тут жил с сожительницей. Деньжонки были… Недели две тому назад произошло. Утром смотрим – что он на службу не идет? Зашли, а он – мертвый, и кругом лужа крови. Зарезали. Сожительница же и подвела. Тут не токма что за деньги – за двадцать копеек друг дружку режут. Только и слухов, что там зарезали, там зарезали. Господ трогать не смеют, а своего брата – валяй сколько влезет. Нет уж, ну ее с такой жизнью! Минуты спокойной не знаешь… Ночью собака залает, вскочишь, оторопь берет, жутко, руки-ноги холодеют: уж не подходят ли? У меня тут как-то собака сдохла. Неделю потом не спал. Думал – отравили. А уж это примета верная, – отравят собаку, значит, «подойти» думают. Знают, что у меня есть деньжонки. Долго ли? Вон она тайга-то, убежал – ищи там его. Нет уж, будет! Вот, как бы не она…
Резцов указывает на еле-еле сидящую за столом сожительницу, куда старше его; баба в последних градусах чахотки.
– Ежели бы не она, – минуты бы здесь не остался. Поправится немножко, продам все, за что ни попадя, и на ту сторону. Лучше уж в бедности, чем так-то!
– Плоховата у вас хозяйка! – говорю я Резцову, когда мы выходим из избы. – Вы бы ее к доктору.
– Ходит в лазарет! – со вздохом отвечает Резцов. – Тут доктор что! Тут доктор не поможет. При ней только сказал, что, мол, «поправится»! Где!
– Да, плоховата, очень плоховата.
– Жду. Вот, может, весной этой, а не то позже осени помрет. Тогда уж распродам все – и на материк. А тоже так-то бросать ее не годится. Все, хоть и не жена, а сколько годов вместе жили, – радостей немного, а горя-то что переделили! Пускай уж помрет. Подожду.
Не правда ли, сухостью веет от этих слов? Эх, там, где речь идет о жизни, – «нет суше дерева, чем человек», по сахалинской поговорке.
Свободные люди острова Сахалин
I. Редактор-издатель
Редко в жизни бывал я изумлен более.
На пристани, в коротеньком тулупе, с Георгием в петлице и колоссальными жгутами тюремного ведомства на плечах, стоял, громоподобно и молниеносно распоряжаясь работами… бывший редактор-издатель газеты «Голос Москвы» и многих других В.Н. Бестужев.
Вообразите себе Геркулеса, вся грудь которого, точно в кольчуге, в орденах и медалях. В медалях и орденах, пожалованных им самому себе, на ношение которых он не имел ни малейшего права. Вот вам внешность этого стихийного человека. Вступил и вышел из военной службы рядовым. В разговоре он часто упоминал:
– Когда в таком-то году я был унтер-офицером…
– Как же ты мог быть унтер-офицером, когда ты рядовой? – интересовались приятели.
– А меня потом разжаловали, – и при всей своей ноздревской натуре он в этом отношении не лгал; едва он успевал дослужиться до унтер-офицера, как моментально подвергался разжалованию за какие-нибудь безобразные деяния. Подчиненных он не мог иметь без того, чтобы не совершить над ними какого-либо возмутительного самоуправства: мордобойства или насилия.
После военной службы он занимался всем и ничего не признавал в умеренных размерах.
Был владельцем огромного имения, вводил самое усовершенствованное, самое рациональное хозяйство, – и имение самым рациональным образом вылетело в трубу.
Затем имел огромный мыловаренный и свечной завод, где мыло и свечи должны были приготовляться особенными, еще не виданными машинами. Но мыла и свечей, приготовленных невиданными машинами, так никто и не увидел.
Далее мы видим его владельцем самой большой типографии в Москве – типографии, в которой одновременно печатались: три ежедневных газеты, один еженедельный и один ежемесячный журнал, масса земской и частной работы.
Типография улетела туда же, куда улетело и имение вместе с мыловаренными заводами. Бестужев судился в московском окружном суде за двоеженство – тогда эти дела слушались с присяжными заседателями – и был оправдан, хотя факт преступления был признан. Из дела выяснилось, что свою вторую жену, богатую вдову-купчиху, Бестужев прельстил, выдавая себя за камер-юнкера и несметного богача. Все состояние несчастной женщины было потом проиграно в карты и истрачено на разные аферы. Разбирательство этого громкого процесса наделало в свое время много шума в Москве. Перечислить «мелкие дела» Бестужева не было бы никакой возможности: почти еженедельно у кого-нибудь из московских мировых судей разбиралось какое-нибудь «бестужевское дело»: или по иску с него, или по обвинению его в самоуправстве, драке и насилии.
Бестужев был одновременно редактором-издателем четырех ежедневных газет[13 - Из которых три должны были выходить в Москве, а одна – в С.-Петербурге.] и издавал из них одновременно три!!!
Его литературная известность была грандиозна, но скоротечна. Он вдруг создал себе всероссийскую известность, но в тот же момент ее и утратил.
Он в одно прекрасное утро «проснулся знаменитостью».
Ничего не подозревая, напечатал в издаваемой им газете «Жизнь» пушкинскую «Пиковую даму»… как произведение какого-то начинающего литератора Ногтева. Все дальнейшие извинения и объяснения редакции ничего не прибавили к лаврам, заработанным в один день.
О газете «Жизнь» говорили все газеты!
Но это была единственная минута литературного успеха.
Бестужев в журналистике играл роль душеприказчика, «брата милосердия».
На его руках умирали газеты.
На его руках покончил свои недолгие, но многострадальные дни «Голос Москвы».
На его руках скончалась начатая господином Плевако и доконченная литературными самозванцами газета «Жизнь».
На его руках умер им же основанный «Вестник объявлений и промышленности».
На его руках замерло, не издав даже писка, многогрешное «Эхо», купленное Бестужевым у петербургского адвоката, господина Т., – знаменитого господина Т., который, защищая еще более знаменитую Луизу Филиппо, обвинявшуюся «в публичном оскорблении общественной нравственности», вынув во время речи из портфеля одну из принадлежностей ее туалета, потрясал этой шелковой безделушкой в воздухе и патетически восклицал:
– Неправда! Вот в чем она была в вечер преступления.
Как видите, все дело состоит только в том, что шелк не выдержал и лопнул от усиленного канкана!
По окончании литературной деятельности Бестужев сразу превратился в… станового пристава Нижегородской губернии. Собственно живейшее его желание было принять участие в шумевшей тогда Ашиновской экспедиции. Бестужев составил уже свой собственный отряд и изумлял Москву, щеголяя в необыкновенной черкеске, увешанный оружием и с небывалыми орденами. Но знаменитый «атаман» отказался принять Бестужева к себе в есаулы.
Больно буен.
С горя бывший редактор и неудавшийся есаул и пошел в становые. В становых он не удержался: превысил власть, натворил каких-то насилий, и мы видим экс-редактора в роли исправника в Томске.
Затем мы его видим… вернее, мы его совсем не видим.
Из Томска, не удержавшись в исправниках и натворив каких-то «дел», он уезжает в Буэнос-Айрес с целым караваном проводников и слуг, зачем-то объезжает Аргентину.
Далее он живет в Чили, ищет счастья в Калифорнии, отбывает за что-то срок в каторжной тюрьме в Сан-Франциско, – в конце-концов я встретил его на Сахалине в роли смотрителя поселений, устроителя быта отбывших наказание преступников и насадителя колонизации.
Таковы, в кратких чертах, жизнь и приключения этого помещика, заводчика, редактора, станового и кругосветного путешественника.
Интересна была первая фраза, которою приветствовал меня Бестужев, мой старый приятель.
– Ты? На Сахалине? – воскликнул я.
– А где ж ты думал меня встретить? – расхохотался Бестужев. – Хорошо еще, что хоть чиновником.
При всех своих недостатках, он был человеком правдивым и как-то в беседе сказал мне:
– Здесь нужны лучшие люди, а кого сюда присылают?! Кто там, в России, ни к чему не пригоден! Да вот хоть меня возьми.
А я, честное слово, еще не из худших.
Он действовал на Сахалине так же бурно, бестолково и не стесняясь никакими законами, как и всю свою жизнь.
Он основывал новые селения, устраивал мастерские, построил церковь, школу, дом для приезжих – и все это без копейки денег – за водку. О «пользе» вообще такой экономической и экономной политики я скажу ниже, а теперь только констатирую факт, что в результате Бестужевских «забот» явилось повальное и совершенное обнищание вверенных его попечениям поселенцев.
Человек «старого склада мыслей», он слыл в своем округе «крутым, но отходчивым, бестолковым барином». И я не думаю, чтобы его образ управления «вверенными душами» особенно способствовал водворению в этих «душах» какого бы то ни было представления о законности… Когда по повальному разорению поселенцев увидели, что Бестужев в устроители сельского хозяйства не годится, его сделали смотрителем Корсаковской тюрьмы. Тут, оказавшись главою над бесправными, лишенными возможности протестовать людьми, Бестужев развернулся во всю ширь и мощь своей дикой натуры: бил, колотил, драл неистово – что на Сахалине редкость, имел даже «неприятность» от начальства за то, что подвергал жестоким телесным наказаниям людей, заведомо больных и освобожденных от телесных наказаний. Бог весть, чем бы все это безобразие кончилось, если бы Бестужев вдруг не попал под суд. Контроль открыл бесцеремонное хозяйничание казенными деньгами. Бестужев был смещен и отдан под суд.
Надеясь, что ему удастся как-нибудь «отговориться», он поехал к генерал-губернатору в Хабаровск, но там его ждал последний удар.
Бестужев дожидался своей очереди в приемной, когда вышел чиновник особых поручений и сказал:
– Генерал приказал передать вам, что он вас не примет…
Довольно! Ваше дело будет решено по закону.
Тучный Бестужев зашатался, лицо его потемнело, он упал, на губах показалась пена.
Прибежал доктор. Бестужев был мертв.
Он умер от апоплексического удара.
Так кончил свои дни этот «свободный человек острова Сахалина».
Каторга, любящая всем давать свои прозвища, прозвала его «атаман-буря».
II. «Сахалинский Орфей»
Корсаковск – это царство селедки.
– Селедка идет!.. – Это событие для тюрьмы, поселенцев, промышленников – для всех. Это то, чем живут целый год.
Что за фантастическая картина! Что за декорация из какой-то феерии!
По морю течет молочная река.
На версту от берега вода побелела, стала молочного цвета.
А кругом, кругом!
Блещут фонтаны китов, ревут сивучи (моржи), с воплями носятся тысячи чаек.
И над всем этим царит господин Крамаренко.
«Сахалинский Орфей», променявший скрипку на селедку.
Но и скрипка не всегда была постоянным инструментом господина Крамаренко. Когда-то он играл на другом инструменте – щелкал на счетах, служа в конторе кого-то из астраханских рыбопромышленников.
Господин Крамаренко – человек молодой годами, но «старый опытом».
В тридцать лет он успел стать конторщиком, скрипачом-виртуозом и превратиться в рыбопромышленника.
Вкусил лавра и питается селедкой.
Господин Крамаренко – астраханский мещанин. Так сказать, земляк астраханской сельди. Но этим и кончается все его родство с соленой рыбой.
По его собственному искреннему, чистосердечному и делающему ему честь сознанию, он о селедке имеет ровно столько же понятия, сколько всякий, кому случалось видеть эту рыбу приготовленной с уксусом, маслицем, горчичкой, свеклой, лучком и картофелем.
Он знает, что селедка – великолепная и рифма, и закуска к водке.
Но на этом все его познания и кончаются.
Даже ваш покорнейший слуга – и тот оказался более опытным рыбопромышленником в сравнении с этим «сахалинским Орфеем».
– Зачем вы солите селедку только сухим способом? То есть кладете и пересыпаете солью? – спросил я. – Отчего бы вам не пускать рыбу в готовый тузлук (рассол)? Наглотавшись тузлука, рыба лучше бы просолилась и была бы нежнее.
Господин Крамаренко посмотрел на меня во все глаза, как на человека, только что открывшего Америку.
– А ведь, знаете, это идея!!! Непременно попробую.
Хороша «идея», которая уж десятки лет применяется на практике! Об этом способе засола селедки я слышал лет шесть перед тем, на нижегородской ярмарке, от керченских рыбопромышленников.
– Да у вас, что же, были свои рыбные промыслы в Астрахани?
– Нет.
– Служили вы на промыслах?
– Тоже нет. Я занимался счетоводством в конторе у купца. Ну, а когда начинался ход селедки – эта ведь неделя весь год кормит, – тогда всякое счетоводство побоку: нас всех посылали на промыслы смотреть за рабочими. Тут я и видел.
Вот и все. Вся его школа. Все его познания.
Потерпев какое-то крушение на родине, господин Крамаренко, как человек предприимчивый, забросил счеты, взял под мышку скрипку, на которой для любителя хорошо играл, и уехал в Уссурийский край, куда в те времена тянуло многих.
Здесь он имел сразу успех. Можно сказать, весь край плясал под его скрипку.
Господин Крамаренко играл на свадьбах, на крестинах, на именинах, украшал себя фантастическими медалями экзотических владык и давал концерты в качестве «придворного виртуоза эмиров афганского, бухарского и киргиз-колпакского».
Он одинаково охотно играл Венявского, Берлиоза, польку «трам-блям», концерты Паганини и кадриль «Вьюшки», изображал при помощи смычка, как «баба голосит», и отжаривал на скрипке, как на балалайке, трепака.
Когда же все это разнообразное искусство достаточно поднадоело и ему, и всему краю, господин Крамаренко уехал «концертировать» на Сахалин.
На Сахалин он попал как раз в минуту «рыбного замешательства» и даже «рыбного помешательства».
– Рыба – вот в чем богатство Сахалина! – кричали справа и слева.
На самом деле, рыбы – уйма, рыбу девать некуда, рыбой кишат реки, рыба мириадами трется у морских берегов.
А как к ней приступить, что с нею делать, как ее солить, – никто не знал.
Всякий ел селедку, но решительно не знает, как она приготовляется. Положение трагическое!
И вдруг приезжий скрипач-виртуоз, в антракте между двумя отделениями танцев, объявляет:
– А ведь я, господа, в Астрахани был, на рыбных промыслах жил, как селедку солят, знаю.