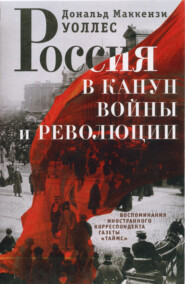
Полная версия:
Россия в канун войны и революции. Воспоминания иностранного корреспондента газеты «Таймс»
Сегодня даже в пределах своих законных полномочий губернаторы испытывают некоторый трепет перед общественным мнением, а иногда и весьма искренний страх перед обычными газетными корреспондентами. Таким образом, люди, которых раньше сатирики называли «мелкими сатрапами», спустились на уровень второстепенных чиновников. Я могу с уверенностью сказать, что многие (на мой взгляд, подавляющее большинство) из них – это честные, порядочные люди, возможно, не одаренные какими-то особыми административными талантами, но честно выполняющие свои обязанности по своему разумению. И если где-то еще сохранились образчики былых «сатрапов», то искать их следует в далеких азиатских губерниях.
От губернатора, который является местным представителем Министерства внутренних дел, не зависит ряд местных чиновников, представляющих другие министерства, и каждый из них располагает собственной канцелярией с необходимым числом помощников, секретарей и писарей.
Чтобы поддерживать в движении эту огромную и сложную бюрократическую машину, требуется немалая армия превосходно вымуштрованных служащих. Их набирают в основном из числа дворян и духовенства, и они образуют особый общественный класс – чиновников, то есть «людей с чинами».
Поскольку чин в России играет важную роль не только в официальном мире, но до некоторой степени и в общественной жизни, пожалуй, следует объяснить, что это такое.
Все должности, гражданские и военные, по разработанному Петром Великим плану, распределены по четырнадцати классам, то есть чинам, и каждому классу, или чину, присваивается определенное название. Поскольку предполагается, что человек должен продвигаться по службе в соответствии с личными заслугами, то впервые поступающий на государственную службу должен, независимо от своего общественного положения, начинать с низших чинов и двигаться вверх по служебной лестнице. Свидетельство об образовании может освободить его от необходимости проходить через низшие чины, а император своей волей может пренебречь рамками, установленными законом, но, как правило, чиновнику приходится начинать с одной из низших ступеней служебной лестницы и проводить некоторое установленное время на каждой ее последующей ступени. Ступень, на которой он стоит в данный момент, или, иными словами, его официальное звание, то есть чин, которым он обладает, определяет, какие должности он может занимать. Таким образом, чин является необходимым условием для назначения на ту или иную должность, однако он не означает фактического занятия какого-либо поста, и названия чинов разных рангов нередко вводят иностранца в заблуждение.
Нужно всегда помнить об этом, читая внушительные титулы, которые порой значатся на визитных карточках у приезжих из России, например Conseiller de Cour (надворный советник), Conseiller d’État (статский советник), Conseiller privé de S. M. l’Empéreur de toutes les Russies (тайный советник Его Величества Императора всея Руси). Было бы некрасиво предполагать, что эти громкие звания выбраны специально с намерением ввести вас в заблуждение, однако нет ни малейших сомнений в том, что иногда заблуждение действительно имеет место. Я сам никогда не забуду выражения сильнейшей брезгливости на лице одного американца, который пригласил на обед такого «тайного советника», думая, что его гость – высокопоставленный вельможа, но случайно узнал, что этот субъект – всего лишь мелкий чиновник в одной из государственных контор. Разумеется, подобное случалось и с другими. Незадачливый иностранец, услышав, что в России существует весьма важное учреждение под названием Conseil d’État (Государственный совет), естественно, предполагает, что Conseiller d’État (государственный или статский советник) является членом этого достопочтенного органа; а если он встретит Son Excellence le Conseiller privé (его превосходительство тайного советника), то почти наверняка предположит, особенно если к титулу прилагается слово actuel (действительный), что перед ним стоит настоящий член русского Тайного совета собственной персоной. Если же к титулу прибавлено de S. M. l’Empéreur de toutes les Russies (Его Величества Императора всея Руси), тут уж перед иностранцем открывается безграничный простор для фантазий. На самом же деле эти титулы вовсе не так значительны, как кажется на первый взгляд. Так называемый «надворный советник», вероятно, не имеет никакого отношения к двору. Статский советник настолько далек от членства в Государственном совете, что даже не может стать его членом, пока не получит более высокий чин. Что же касается тайного советника, то достаточно сказать, что Тайный совет, который имел крайне одиозную репутацию в свое время, почил более века тому назад и с тех пор не воскрешался. Объяснение этих аномалий следует искать в том, что русские чины, как и немецкие почетные титулы Hofrath (надворный советник), Staatsrath (статский советник), Geheimrath (тайный советник), буквальным переводом коих они и являются, указывают не на фактически занимаемый пост, а всего лишь на почетный официальный ранг. Раньше назначение в должность обычно зависело от чина; ныне же старый порядок все чаще ставится с ног на голову и чин начинает зависеть от фактически занимаемой должности.
Читатель с практическим складом ума, имеющий обыкновение обращать внимание на результат, а не на форму и частности, скорее всего, не желает еще глубже вникать в тонкости российской бюрократии, а просто хочет знать, как она работает на практике, что она сделала для России в прошлом и что делает в настоящем.
В наши дни, когда вера в цивилизующих деспотов и патерналистскую власть грубо поколеблена, а преимущества свободного, стихийного национального развития общепризнаны, централизованная бюрократия повсюду впала в немилость. В России неприязнь к ней особенно сильна, поскольку здесь под этой неприязнью есть не просто теоретические основания, а нечто большее. Память о правлении Николая I с его суровым военным режимом и мелким педантичным формализмом заставляет многих россиян глубоко осуждать правление, при котором они живут, и большинство англичан склонны поддержать это отрицательное мнение. Однако прежде, чем выносить приговор, следует понять, что эта система имеет, по крайней мере, историческое оправдание, и мы не должны по причине своей любви к конституционным свободам и местному самоуправлению закрывать глаза на различия между теоретическими и историческими возможностями. То, что политическим философам абстрактно представляется наилучшим вариантом из возможных, в каких-то конкретных случаях может оказаться совершенно неприемлемым. Нам не следует пытаться ответить на вопрос, является ли благом для человечества существование России как нации, однако мы можем смело утверждать, что без централизованной администрации Россия никогда бы не стала одной из великих европейских держав. До сравнительно недавнего времени часть мира, называемая Российской империей, являла собой конгломерат независимых или полунезависимых политических единиц, где действовали как центробежные, так и центростремительные силы; и даже сегодня это далеко не компактное и однородное государство. Именно самодержавная власть с централизованной администрацией в качестве необходимого дополнения сначала создала Россию, затем спасла ее от расчленения и политической гибели и в конечном счете обеспечила ей место среди европейских наций, введя в ней западную цивилизацию.
Со всей определенностью признавая, таким образом, что самодержавие и высокоцентрализованное управление были необходимы в первую очередь для создания, а затем и для сохранения национальной независимости, мы не должны закрывать глаза на пагубные последствия этой печальной необходимости. Такова природа вещей, что правительство, стремясь осуществить свои замыслы, которых его подданные не разделяли и не понимали, неизбежно отдалилось от народа; безрассудная поспешность и жесткость, с которыми оно пыталось осуществить свои планы, вызвали в массах дух решительного сопротивления. Значительная часть народа долгое время видела в царях-реформаторах воплощение зла, а цари, в свою очередь, видели в народе сырье для осуществления политических проектов. Эти своеобразные отношения между народом и правительством легли в основу всей системы управления. Власть искони воспринимала людей как малолетних детей, неспособных осознать ее политические цели и даже не вполне годных к тому, чтобы позаботиться о собственных же местных делах. Чиновники, разумеется, действовали в том же духе. Ища руководства и одобрения только со стороны начальства, они систематически третировали тех, над кем были поставлены, словно побежденного противника или людей второго сорта. Таким образом, государство стало рассматриваться как абстрактное образование, интересы которого всецело отличны от интересов составляющих его людей; и во всех делах с участием государственных интересов права людей безжалостно приносятся в жертву.
Если мы вспомним, что трудности централизованного управления прямо пропорциональны масштабам и территориальному разнообразию управляемой страны, то нам будет легко понять, насколько медленно и несовершенно административный аппарат работает в России, и это неизбежно. Весь обширный регион, простирающийся от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря и от берегов Балтики до границ Поднебесной, управляется из Санкт-Петербурга. Истинный бюрократ испытывает неподдельный ужас перед формальной ответственностью и, как правило, старается ее избежать, забирая все дела из рук подчиненных и передавая их на усмотрение вышестоящих властей. Поэтому, как только дела попадают в административную машину, они начинают подниматься вверх и, вероятно, когда-нибудь дойдут до кабинета министра. Из-за этого министерства наводнены бумагами со всех уголков империи, зачастую самыми банальными; и высшие должностные лица, имей они даже глаза многоокого Аргуса и руки сторукого Бриарея, просто не в состоянии добросовестно выполнять возложенные на них обязанности. На самом же деле российское высшее начальство не похоже ни на Аргуса, ни на Бриарея. В большинстве своем оно не демонстрирует ни широких, ни глубоких познаний о стране, которой ему положено управлять, и, как видно, никогда не страдает нехваткой свободного времени.
Помимо неизбежных зол чрезмерной централизации, России пришлось немало пострадать от взяточничества, продажности и вымогательства со стороны чиновников. Когда Петр Великий однажды предложил повесить каждого, кто наворует на сумму, достаточную для покупки веревки, его генерал-прокурор откровенно ответил, что, если его величество воплотит свой замысел, в стране не останется чиновников. «Все мы воруем, – добавил сей достойный муж, – с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло почти два столетия, и все это время Россия неуклонно развивалась, но вплоть до восшествия на престол Александра II в 1855 году в моральном облике администрации мало что изменилось. Кое-кто из старожилов еще помнит время, когда они без особого преувеличения могли бы повторить слова петровского генерал-прокурора.
Чтобы составить верную картину этого некрасивого явления, надо провести различие между двумя видами коррупции. С одной стороны, существовала привычка вымогать за оказанные услуги, как говорится в народе, «чаевые», а с другой стороны – разные виды откровенного казнокрадства. Хотя между этими двумя категориями не всегда можно провести четкую границу, в нравственных представлениях того времени это различие признавалось в полной мере, и многие чиновники, регулярно получавшие «безгрешные доходы», как порой называли эти «чаевые», были бы крайне возмущены, если бы их заклеймили как нечестных людей. Фактически этот обычай был распространен повсеместно и в какой-то степени мог быть оправдан малым размером официального жалованья. В некоторых ведомствах существовал общепринятый тариф. Например, «винные откупщики», которые возделывали государственную монополию на производство и продажу спиртных напитков, регулярно платили фиксированную сумму каждому чиновнику от губернатора до полицеймейстера в соответствии с его положением. Мне рассказывали об одном случае, когда чиновник получил денег больше обычного и добросовестно отдал сдачу! Другие, более безобразные проступки происходили отнюдь не так же часто, но все же слишком часто. Известно, что многие высокопоставленные чиновники и важные сановники получали большие доходы, к которым никак нельзя было применить эпитет «безгрешный», и тем не менее сохраняли свое положение и в обществе их принимали со всевозможным почтением.
Правители были хорошо осведомлены о злоупотреблениях и в какой-то степени стремились их искоренить, но одержанные ими успехи на этом поприще рисуют перед нами не слишком лестную картину фактического всемогущества самодержавия. В централизованной бюрократической администрации, где каждый чиновник в той или иной мере отвечает за грехи своих подчиненных, всегда необычайно трудно привлечь официального виновника к ответственности, поскольку его обязательно будет защищать его же собственное начальство; а когда само начальство виновно в систематических злоупотреблениях служебным положением, виновник вполне застрахован от разоблачения и кары. Энергичный царь мог бы значительно способствовать разоблачению и наказанию преступников, если бы осмелился обратиться за помощью к общественности, но в действительности глава государства весьма нередко сам является участником системы замалчивания чиновных преступлений. Он сам – первый чиновник в государстве и знает, что злоупотребление властью со стороны подчиненных порождает враждебность по отношению к источнику всей официальной власти. Считается, что частое наказание должностных лиц может ослабить уважение общества к правительству и подорвать социальную дисциплину, необходимую для общественного спокойствия. Поэтому считается целесообразным как можно меньше предавать огласке злоупотребления чиновников.
Помимо того, как ни странно, правительство, опирающееся на своеволие отдельного лица, несмотря на случающиеся время от времени всплески жестокости, гораздо менее склонно к систематическим проявлениям суровости, нежели власть, основанная на свободном общественном мнении. Когда нарушения допускаются на очень высоком уровне, царь почти наверняка проявит к виновному снисходительность, граничащую с мягкостью. Если нужно принести жертву правосудию, то она приносится по возможности безболезненно, и высокопоставленных «козлов отпущения» не обрекают на голодную смерть в пустыне – нет, обычно эта пустыня находится где-нибудь в Париже или на Ривьере. Этот факт может показаться странным тем, у кого самодержавие по привычке ассоциируется с неаполитанскими казематами и сибирскими рудниками, но объяснить его нетрудно. Никто, даже самодержец всея Руси, не может настолько облачиться в броню государственного достоинства, чтобы полностью защититься от личных влияний. Монархи приберегают свою суровость для политических преступников, к которым они, совершенно естественно, питают чувство личной неприязни. Нам куда легче проявить снисходительность и милосердие к человеку, который согрешил против общественной морали, чем к тому, кто согрешил против нас самих!
Что же касается реформаторов бюрократии в России, ради справедливости следует отметить, что они предпочли профилактику лечению. Воздерживаясь от драконовских законов, они доверились системе хитроумных проверок и сложных формальных процедур. При взгляде на запутанные формальности и головоломный порядок контроля за администрацией складывается первое впечатление, будто злоупотребления со стороны чиновников категорически исключены. Кажется, что предугаданы любые поступки лю бого официального лица и все лазейки, по которым можно сойти с узкого, но честного пути, наглухо замурованы. Для иллюстрации формальных порядков в условиях высокоцентрализованной бюрократии, позвольте привести один пример, о котором мне случайно стало известно.
В резиденции генерал-губернатора одной из печей требуется ремонт. Простой смертный может подумать, что человеку на генерал-губернаторском посту можно доверить честно потратить несколько монет и что вследствие этого его превосходительство немедленно прикажет произвести ремонт и записать оплату в мелкие расходы. Однако перед бюрократом это дело предстает в совершенно ином свете.
Следует досконально учесть все возможные непредвиденные обстоятельства. Поскольку генерал-губернатор может быть одержим манией бесполезных улучшений, надо проверить необходимость ремонта; а поскольку несколько человек разумнее и честнее одного, то хорошо бы доверить эту проверку комиссии. Вследствие этого комиссия из трех или четырех человек удостоверяет, что ремонт необходим. Ее слово весьма авторитетно, но его недостаточно. Комиссии состоят из обычных людей, которым свойственно ошибаться, да и генерал-губернатор может их запугать. Поэтому целесообразно потребовать, чтобы решение комиссии подтвердил прокурор, который подчиняется непосредственно министру юстиции. Когда необходимость ремонта таким образом дважды подтверждена, архитектор осматривает печь и составляет смету. Но давать карт-бланш архитектору было бы небезопасно, и поэтому смету должны утвердить сначала вышеупомянутая комиссия, а затем и прокурор.
После должного соблюдения всех вышеперечисленных формальностей, на которые уйдет шестнадцать дней и десять листов бумаги, его превосходительству сообщают, что предполагаемый ремонт печи будет стоить два рубля сорок копеек. Но формальности не прекращаются и здесь, поскольку правительство должно иметь гарантии, что архитектор, составивший смету и руководящий ремонтом, не проявил преступной халатности. Поэтому для изучения работ отряжают второго архитектора, и его отчет, как и дотоле и смета, должен быть утвержден комиссией и прокурором. Вся переписка длится тридцать дней и требует как минимум тридцати листов бумаги! Если бы ремонт печи потребовался не генерал-губернатору, а простому смертному, то вообще невозможно сказать, сколько продлилась бы эта волокита.
Естественно было бы предположить, что этот окольный и заковыристый метод с его реестрами, бухгалтерскими книгами и протоколами заседаний должен хотя бы предотвращать растраты; но этот априорный вывод категорически опровергается опытом. На каждую новую хитроумную преграду просто находится еще более хитроумный способ ее обхода. Система не останавливала тех, кто хотел воровать, и пагубно действовала на честных чиновников, внушая им чувство, что власти им не доверяют. Кроме того, она приучила всех чиновников, и честных, и нечестных, к систематическим подлогам. Поскольку даже самый педантичный человек, а педантичность – редкое среди русских качество, не в состоянии досконально выполнить все предписанные формальности, сложилась обычная практика соблюдать их только на бумаге. Чиновники удостоверяли факты, которые и не собирались проверять, и секретари всерьез составляли протоколы заседаний, которые никогда не проводились! Таким образом, в вышеупомянутом случае печку на самом деле починили задолго до того, как архитектор получил официальное разрешение приступить к работам. Тем не менее комедию усердно разыграли от начала до конца, так что всякий, кто впоследствии проверил бы документы, обнаружил бы, что все сделано по всем правилам.
Возможно, самый изощренный способ предотвращения чиновных злоупотреблений изобрел император Николай I. Прекрасно осознавая, что его регулярно и систематически обманывают рядовые чиновники, он создал хорошо оплачиваемую службу, называемую жандармерией, и разослал жандармов по всем городам и весям, приказав им сообщать непосредственно его величеству все, что покажется им достойным упоминания. Эта придумка вызвала восхищение в бюрократических умах; и царь не сомневался, что с помощью этих официальных наблюдателей, не заинтересованных в сокрытии истинного положения дел, он будет все узнавать и исправлять все нарушения чиновников. В действительности же этот замысел имел весьма пагубные последствия. Хотя все это были отборные служаки на хорошем жалованье, все они в той или иной степени поддались господствующим настроениям. Они не могли не чувствовать, что в них видят шпионов и наушников – унизительное ощущение, никак не способное развить в них то чувство самоуважения, которое лежит в основе честности, – и что все их усилия пойдут прахом. По сути, они находились примерно в том же положении, что и генерал-прокурор Петра Великого, и с истинно русским добродушием не любили разорять людей, которые были не большими преступниками, чем большинство их соотечественников. Кроме того, согласно принятому кодексу чиновной морали, неповиновение считалось куда более страшным грехом, чем продажность, а наигнуснейшим злодеянием считались политические преступления. Поэтому жандармы закрывали глаза на распространенные злоупотребления, считая их неисправимыми, и занимались реальными или мнимыми политическими провинностями. Притеснения и вымогательства оставались незамеченными, а вот неосторожное слово или глупая шутка в адрес властей слишком часто раздувались до размера государственной измены.
В конце правления Александра II (1880 г.), когда граф Лорис-Меликов с санкции и одобрения своего августейшего владыки готовился провести либеральные политические реформы, предполагалось упразднить жандармерию как орган политического шпионажа, и в соответствии с этим руководство им было передано из так называемого Третьего отделения Канцелярии его императорского величества Министерству внутренних дел; но когда через несколько месяцев доброжелательный монарх погиб от рук революционеров, проект, естественно, был заброшен, и жандармский корпус, оставшись в ведении министра внутренних дел, вернул себе значительную часть прежней власти. Ныне он служит своего рода дополнением к обычной полиции и, как правило, используется для таких дел, где требуется соблюдение секретности. К сожалению, он не связан теми законными ограничениями, которые защищают общественность от своеволия обычных властей. Вдобавок к обычным обязанностям он выполняет некую ясно не сформулированную разъездную работу, ведя наблюдение и арестовывая всех лиц, которые кажутся ему в каком-либо роде опасными или подозрительными, и этих лиц могут содержать под стражей неопределенный срок или сослать в какие-нибудь отдаленные и негостеприимные части империи без обычного суда и следствия. В двух словах, это типичный инструмент для наказания политических мечтателей, подавления тайных обществ, противодействия политическим волнениям и в целом выполнения не предусмотренных законами распоряжений правительства.
C этой аномальной ветвью власти я сам имел несколько своеобразные отношения. После того случая с новгородским вице-губернатором я решил оградить себя от всяких подозрений и с этой целью обратился к шефу жандармерии с просьбой выдать мне какую-нибудь официальную бумагу, которая доказывала бы всем должностным лицам, с которыми меня могла бы столкнуть жизнь, что я не имею никаких противозаконных замыслов. Мою просьбу удовлетворили, и я получил необходимые бумаги; но вскоре оказалось, что, пытаясь избежать Сциллы, я попал в Харибду. Устранив сомнения со стороны чиновников, я нечаянно навлек на себя подозрения совсем иного рода. Документы, подтверждающие, что я пользуюсь защитой со стороны правительства, внушили многим мысль, что я – жандармский агент, и чрезвычайно осложнили мои попытки получить сведения из частных источников. Поскольку частные источники были для меня важнее официальных, я больше уж не просил покровительства у властей и ездил по стране как обычный путешественник без особой защиты. Какое-то время у меня не было никаких причин жалеть об этом решении. Я знал, что за мной довольно внимательно следят и что мои письма иногда вскрывают на почте, но в остальном препятствий мне не чинили. Наконец, когда я почти что позабыл о Сцилле и Харибде, однажды ночью я неожиданно столкнулся с первой и, к своему изумлению, оказался под арестом! Все это случилось следующим образом.
Я был в поездке по Австрии и Сербии и после короткого отсутствия вернулся в Россию через Молдавию. Прибыв к Пруту, по которому проходила граница, я нашел офицера жандармерии, в обязанности которого входило проверять паспорта всех проезжающих. Хотя мой паспорт был в полном порядке и должным образом подтвержден британскими и русскими консулами в Галаце, этот господин подверг меня тщательной проверке в том, что касалось моей прошлой жизни, нынешнего рода занятий и намерений на будущее. Узнав, что я более двух лет путешествовал по России за свой счет с простой целью сбора разнообразной информации, он поглядел на меня недоверчиво и, казалось, несколько усомнился в том, что я действительно британский подданный; но когда мои слова подтвердил мой спутник – друг из России, который обладал повергающими в трепет полномочиями, он подписал мой паспорт и позволил нам ехать дальше. Таможенники скоро закончили досмотр нашего багажа; и по дороге в близлежащую деревню, где мы собирались переночевать, мы поздравляли себя с тем, что на какое-то время ускользнули от всяких контактов с государственными органами.



