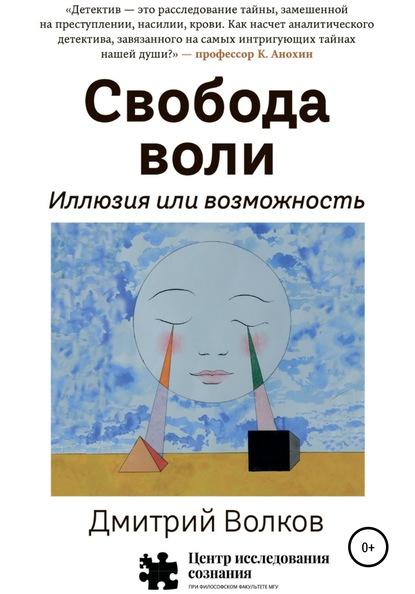 Полная версия
Полная версияСвобода воли. Иллюзия или возможность
Стоит направить на человека увеличительные приборы, личность вдруг окажется невидимой и неуловимой, как и в деннетовской истории. Ведь даже в обычной жизни функции агента распределены, просто распределенность их не так масштабна. Дистанцирование мозга от тела заставляет героя и читателей задуматься: с каким из модулей правильней ассоциировать личность? Локализация когнитивных функций склоняет интуиции в пользу ассоциации с мозгом, а расположение органов чувств – в сторону ассоциации с телом. Но обе альтернативы, скорее всего, ложные. Это становится понятно, когда в конфигурацию распределенного агента добавляется запасной электронный мозг. Теперь альтернатив становится три, а в перспективе их бесконечное множество, ведь копий может быть сколько угодно. К тому же личность удивительным образом оказывается способна мгновенно перемещаться между всеми этими модулями. Как объяснить эти перемещения, не покидая пределов физикализма?
Еще более запутанной ситуация становится, когда мозги Деннета рассинхронизируются. Вдобавок к локализации теперь очевидной становится и проблема идентификации. Теперь не ясно не только где локализуется личность, но и кто из личностей – Деннет. Объяснить мгновенные перемещения героя можно, если считать личность не конкретной, физической, а абстрактной сущностью. Именно к этой идее подталкивает читателя автор. Абстрактные сущности нереференциальны, то есть не отсылают к каким-либо конкретным физическим объектам. И потому как их поведение в мире, так и их описание сильно отличаются от поведения и описания конкретных объектов. Меры длины, метры и километры, к примеру, необходимы для характеристики расстояния. Их использование вполне законно и не противоречит физикализму. Но было бы ошибочно искать эти абстрактные сущности где-то на дороге, считать количество таких характеристик или заключать об их тождестве между собой.
Атомы и пустота – не единственное, что признаёт наука. В ее онтологии есть место и для более странных вещей. Например, центр тяжести – понятие, которое составляет важную часть ньютоновской физики. Центр тяжести – не какая-то конкретная частица, не атом. Это условная точка, пространственная координата. У нее нет ни запаха, ни цвета, ни плотности, ни массы, нет никаких физических свойств. И тем не менее она необходима для того, чтобы точно предсказать движение объекта. Она даже фигурирует в каузальных объяснениях. В этом смысле она является реальным объектом, реальной объективной причиной событий. Центр тяжести может совпадать с геометрическим центром предмета, а может быть вне предмета. Центр тяжести Земли – где-то во внутреннем ядре, а центр тяжести бублика – в дырке. Перемещаться центр тяжести может не только постепенно, но и мгновенно, минуя промежуточные этапы. Такова экзотическая судьба абстрактных сущностей. Если следовать аналогии и предположить, что личность – это что-то вроде центра тяжести, можно без труда и без дуализма объяснить феномен, с которым столкнулся герой деннетовского мысленного эксперимента, – мгновенное перенесение личности. Впрочем, если личность сходна с абстрактным понятием, как могло возникнуть это абстрактное представление? В книге «Объясненное сознание» Деннет предлагает свою концептуальную схему возникновения личности.
2. Личность как результат эволюции
A. Появление границ, предпочтений и агентов
Некоторое время назад не было ни агентов, ни личностей. В природе были причины, но отсутствовали мотивы. Было разнообразие, но не было лучшего и худшего. Не было целей, так как некому их было иметь. Существенные изменения произошли с появлением химических структур, способных к самокопированию, – так начинает свою историю Деннет [Dennett 1991b, 173]. Это были простейшие живые организмы. Самокопирование было их ключевым свойством. Воспроизведение собственных копий стало их первым «интересом». Естественно, этот интерес у них был не осознан, но он объективно проявлялся в их поведении. Ведь выживать стали те, у кого способность к копированию была развита лучше. Они копировались чаще, и те копии, что производились с еще большей предрасположенностью к самокопированию, воспроизводились быстрее и в большем масштабе. То, что мешало воспроизводству и препятствовало работе механизмов самокопирования, стало «отрицательным», а то, что способствовало, – «положительным». Так появились предпочтения и «точка зрения». Конечно, эта точка зрения была внутренне пустой, «необитаемой». Но она уже существовала как некое место, с которого могла бы быть рассмотрена ситуация или… рассказана история[42].
Примитивные системы, какими были первые репликаторы, не интериоризировали, не осознавали собственных предпочтений. Но то, что могло бы быть описано как их предпочтения, явно присутствовало в их поведении. Оно стало выражать рациональную схему. Поведение репликаторов возможно было интерпретировать как интенциональное, то есть преднамеренное. Рациональность появилась как объективная схема. Это была независимая от агента, свободная рациональность. И эта рациональность не могла существовать без определения границ между организмом и окружающей его средой.
Если главной задачей является производство как можно большего числа копий, сначала следует определиться, что нужно копировать, а что – нет. Невозможно же скопировать весь мир. К тому же для создания копий необходимо обеспечить стабильность, безопасность процессу копирования. Так возникла потребность в границах, разделяющих внутреннее и внешнее. «Как только твоим основным делом становится самосохранение, границы становятся необходимыми, поскольку, если ты хочешь сохранить себя, ты не должен растратить все силы, сохраняя весь мир» [Dennett 1991b, 174].
В мире неживой природы границ нет. Безразлично, где заканчивается один камень и начинается другой. Разлом или трещина могут проходить здесь или там – камни не извлекут из этого выгоду и не претерпят неудобств. Совсем другое дело – в случае живых существ. Они вынуждены следить за собственными границами. Иначе бы разрушилось их функциональное единство. Так что были созданы сложные механизмы защиты: шерсть, чешуя, панцири, зубы и клешни. Иммунная система – это тоже инструмент защиты границ, целая армия из миллионов различных антител, чьей основной задачей является защита организма от незваных и вредных для здоровья гостей. Правда, все механизмы защиты должны были быть направлены вовне, а не против себя. Как биологический организм мог определить, где его границы? Скорее всего, эта способность жестко запрограммирована эволюционным процессом. И она присутствовала у самых простых организмов. У всех организмов должно существовать рудиментарное представление о себе, о своей структуре. Иначе они не смогли бы адекватно реагировать на изменения во внешней среде. Эта рудиментарная схема и есть их собственное Я, простейшее биологическое Я.
B. Личность как расширенный фенотип
Существование границ и механизмов защиты у организмов не означало полной непроницаемости между внешним и внутренним. В организмах всегда были и есть пришельцы: это вирусы и бактерии. Эти пришельцы сами по себе являются автономными системами, у них есть собственные границы. Часть из них паразитирует на организме хозяина. А некоторые не только безвредны, но и необходимы для нормального функционирования последнего. Некоторые бактерии, например населяющие пищеварительную систему, позволяют усваивать пищу, а другие – вырабатывают полезные вещества. Даже митохондрии, основной источник энергии в наших клетках, скорее всего, некогда являлись «посторонними» – бактериями, которые были поглощены, но нашли вариант взаимовыгодного сожительства с организмом-хозяином. Границы организма были проницаемы и в другую сторону – вовне. Ведь пространство агента может распространяться за пределы его физического тела [Ibid., 413].
Сами живые существа проводили экспансию во внешний мир. Многие виды приспособились осваивать окружающее пространство так, что оно как бы стало их естественным продолжением. Улитка накапливает кальций, чтобы потом выделять его вовне и формировать твердую ракушку, а рак-отшельник присваивает уже готовую раковину, пауки плетут паутины, а бобры строят плотины. Эти артефакты нужны им для того, чтобы повысить свои шансы на выживание, и, как показал биолог-эволюционист Ричард Докинз, они также являются объектами естественного отбора. Они представляют так называемый «расширенный фенотип».
«Расширенный фенотип» может продлевать территориальные границы организма на несколько сантиметров (как в случае с улиткой), а может – на километры (как в случае с границами заводи после строительства плотины бобром); он может быть относительно простым, а может быть необыкновенно искусно сделанным, как, например, термитник или гнезда австралийского шалашника. Он может включать в себя неорганические предметы, а может включать даже особей того же вида, как в случае с колонией муравьев. Но самые удивительные и сложные конструкции создаются человеком.
Мозг человека создает уникальную по своей сложности паутину из поступков и текстов [Ibid., 416]. Как и искусственные артефакты животных, эта сеть – личная история – выполняет защитную функцию и увеличивает шансы организма на репродукцию. И как большинство артефактов животных, она собрана из элементов (и событий), уже существующих в окружающей среде. Это универсальная тактика самозащиты, самоконтроля и самоопределения. Язык и образованный на его основе биографический текст являются основой для появления личности – наиболее удивительного вида «расширенного фенотипа» у живых существ. Он создает личность как тренд, как геометрический центр биографических историй, как условную точку, куда указывает стрелка компаса поступков. Личность, согласно емкому определению Деннета, – это центр нарративной гравитации. «Наши истории выплетаются, но в большей степени не мы плетем их, а они плетут нас. Наше человеческое сознание и наша нарративная личность – это их продукты, а не их источники» [Ibid., 418], – пишет американский философ.
Как и любое биологическое существо, человек и его мозг – это система из множества модулей. Ни один из этих модулей не обладает всеми уникальными качествами личности. Ни одному из них не могут быть приписаны желания, убеждения, действия агента и ответственность за них. Но в результате совместной работы всех этих модулей организм демонстрирует сложное целенаправленное поведение, которое и можно назвать поведением личности. Ее заметно с высоты птичьего полета, с позиции автобиографической истории. Текст происходит как будто из одного источника, порождая ощущение единого агента, который создает эту историю.
История происхождения агентов, собственных Я, личности, в том виде, как эта история была представлена выше, конечно же, – набросок, модель, воспроизводящая логику эволюционного процесса. В этом сюжете нет подробностей и исторических дат. Тем не менее эта история позволяет наглядно проследить, как из неживой природы с помощью одного только слепого алгоритма могли возникнуть системы с собственной точкой зрения, границами, само-репрезентацией и даже автобиографией. Эта история показывает, что «личность» может быть продуктом биологического организма, результатом адаптации, лишь по уровню сложности, а не по принципу, отличающимся от других искусственных артефактов, созданных живыми существами. И возникновение такой личности естественно. Оно не требует осознанного плана по ее созданию, как плетение паутины не требует от паука интеллектуального замысла, как строительство термитника не требует архитектурного проекта у термитов, как работа иммунной системы не предполагает медицинских знаний у антител. Но из всего этого не следует, что личность – это что-то обыкновенное. В ее основе лежит рудиментарное представление о себе, саморепрезентация, которая присутствует почти у всех живых организмов. И она является одним из вариантов расширенного фенотипа, который встречается даже у муравьев, бобров и пауков. Но при этом кажется, что личности все-таки принципиально отличаются от расширенных фенотипов других живых организмов. В чем заключаются эти отличия? В чем особенность личностей?
3. Критерии личности
«Вполне можно было бы надеяться, что столь важное понятие, применимость которого с такой уверенностью нами провозглашается или отвергается, имеет четко формулируемые необходимые и достаточные условия использования. Но если эти условия и существуют, мы их еще не выявили», – пишет Деннет в статье «Условия личностности» [Dennett 1976, 175]. Более того, философ считает, что их полный список в принципе не может быть составлен. Для того чтобы показать это, он идет «от противного». Деннет составляет список, который должен исчерпать критерии личности, а потом критикует его, показывая, что не только этот список, но и любой другой не сможет подойти для такой цели. Свой аргумент он начинает с общих наблюдений.
Класс личностей, замечает Деннет, по всей видимости, примерно совпадает с классом людей. Но связь этих классов не основана на определении. Личность – это понятие, относящееся не к биологическому виду, а скорее к функциональному. Другие биологические виды (и даже механические существа) теоретически могли бы тоже обладать этой характеристикой. Однако требования к наличию личности, кажется, специфичны и высоки, так что другие существа, известные к настоящему времени, даже высшие млекопитающие, такие как собаки, обезьяны и дельфины, скорее всего, не соответствуют этим требованиям. Более того, даже некоторые люди не проходят по этим критериям – например, младенцы и люди, страдающие психическими расстройствами. Только к части людей мы относим понятие личности.
Кажется, критерии личности бывают двух типов: этические и метафизические. Уже философы Нового времени обнаружили это. Локк, в частности, писал, что личность – «это юридический термин, касающийся действий и их ценности и относящийся поэтому только к разумным существам, знающим, что такое закон, счастье и несчастье. Эта личность простирает себя за пределы настоящего существования, к прошлому только силой сознания; вследствие этого она беспокоится о прошлых действиях, становится ответственной за них, признавая за свои и приписывая их себе совершенно на том же самом основании и по той же причине, что и настоящие действия» [Локк 1985, 400]. Этический критерий личности – принадлежность к обществу морально ответственных агентов[43]. Согласно этому критерию, если агент принадлежит к обществу морально ответственных агентов, то он – личность. С этим критерием нельзя не согласиться. Но он неинформативен. Получается круг: моральная ответственность предполагает существование личности, а личность понимается как то, что является основанием моральной ответственности. Для нетавтологического определения того, что такое личность, нужно использовать метафизические критерии.
Метафизические характеристики могут прояснить специфику личности. К метафизическим чертам личности Локк причисляет разумность, наличие сознания и памяти, знание добра и зла. Последнее можно называть моральной компетентностью. Во многом созвучные характеристики выделяет и Деннет в своей статье, посвященной понятию личности, «Условия личностности». Американский философ выделяет шесть основных условий: (1) рациональность, (2) наличие сознания, (3) возможность быть объектом личностной установки, (4) способность занимать личностную установку, (5) язык, (6) наличие самосознания [Dennett 1976, 177–178].
Разумность или рациональность у Деннета – это закономерность, телеологическая схема поведения, обусловленная эволюционным процессом. Она присуща множеству живых существ. Она предполагает наличие интересов и предпочтений у организма, а также минимальной способности эти потребности удовлетворять. Другая важная особенность – сознание. Это тоже общая черта для некоторых животных. Под сознанием Деннет в данном случае понимает не квалитативные состояния, а только возможность приписывать организму интенциональные содержания: ментальные или психологические характеристики, желания и убеждения. Это функциональная характеристика, определяемая по поведению.
Следующее условие – способность быть личностью в глазах других. Деннет предлагает любопытную инверсию. Он считает, что не столько объективный факт того, что агент является личностью, заставляет других относиться к нему как к личности, а наоборот: относясь к кому-то как к личности, мы устанавливаем некоторое положение дел в отношении этого агента. «Считать ли нечто личностью, в некотором смысле зависит от отношения, которое проявляют к этому нечто, от установки, которую принимают по отношению к нему» [Ibid., 177].
Три первые характеристики, по мнению Деннета, выделяют класс, который он обозначает как класс интенциональных систем. «Интенциональные системы – это системы, чье поведение может быть (по крайней мере иногда) объяснено и предсказано на основании приписывания этой системе убеждений и желаний…» [Ibid., 179]. Класс интенциональных систем, по мнению Деннета, гораздо шире, чем класс личностей: в него попадают и животные, и даже некоторые машины. А вот следующие характеристики специфичны только для личностей.
Способность обходиться с другими как с личностями – это еще одна важная характеристика. Это способность признавать наличие собственных интересов у другой личности, учитывать эти интересы при выборе своих действий. Чаще всего речь идет об уважительном отношении, поведении с учетом интересов и достоинства другой личности. Но не только. К личности также применимы и особые требования, в частности моральная ответственность. Даже некоторые формы преднамеренного крайне уничижительного отношения будут формой межличностных отношений. Личности по отношению к другим личностям могут проявлять особенную жестокость. Это тоже будет выражать специфически личностное отношение.
Одним из важнейших свойств личности является язык. Он дает возможность интериоризировать рациональность. В таком случае рациональность не только объективно прослеживается в поведении, в том, что существо имеет определенные цели и способно в поведении их добиваться, но и выражается в способности личность анализировать и планировать действия. Личности способны осуществлять предварительный отбор вариантов поведения внутри, в процессе рассуждений, и, по выражению К. Поппера, «позволяют гипотезам умирать вместо них самих» [цит. по: Dennett 1995, 375]. В отличие от других существ, выживающих только благодаря тому, что удачно выбрали вариант действия, личности не играют в рулетку – их выбор надежнее, чем надежда на случай. Если живые существа в целом просто удачливы благодаря имеющимся у них готовым адаптированным схемам, личности удачливы постольку, поскольку способны с помощью языковых выражений моделировать будущее.
И наконец, последнее, по мнению Деннета, условие – способность к самосознанию. Под самосознанием подразумевается представление о себе как об авторе собственных действий, способность описывать эти действия, наличие образа себя как длящейся во времени сущности. Эта способность напрямую связывает условие личности с условиями ответственности. В этом утверждении Деннет опирается на позицию Э. Энском, которая считала, что «для того, чтобы быть ответственным за действие… необходимо осознавать описываемое действие» [Dennett 1976, 191]. Человек должен расценивать действие как свое собственное и иметь возможность объяснить его, исходя из собственной позиции. Ведь если он не может описать свое действие, опознать его в некоторой формулировке и объяснить его мотивы, значит, он не имеет особого привилегированного доступа к причинам действия, не может признать это действие своим и, соответственно, нет оснований считать именно его ответственным за это действие.
Приведенный выше список в целом характеризует способности обычного здорового взрослого человека. И представляется, что эти характеристики подходят на роль критериев личности. Все перечисленные условия необходимы для того, чтобы признать некоторый х личностью. Но, по мнению Деннета, их все равно недостаточно, чтобы четко очертить класс личностей. Ни этот, ни какой-либо другой сходный список не позволяет этого добиться. Это связано с тем, что все перечисленные (и другие возможные) условия личности нормативны по своей сути. Они представляют абстрактный идеал, направление движения, но не позволяют провести четкую объективную разграничительную линию. «Люди или другие сущности могут только стремиться приближаться к идеалу, и невозможно установить какой-либо “зачетный балл”, который не был бы произвольным» [Dennett 1976, 193]. Рациональность, предсказуемость с позиции интенциональной установки, самосознание – все это идеальные модели. Ни одна личность не соответствует этим идеальным схемам все время, и поэтому наше суждение о принадлежности кого-то к классу личностей, к классу ответственных агентов все равно будет достаточно произвольным. «Личности в абсолютном смысле» не существует так же, как не существует «ответственности в конечном счете». Для того чтобы убедиться, насколько тонка грань между личностями и теми, кто находится вне этой категории, можно обратиться к случаям умеренных отклонений от норм: взрослых с признаками аутизма, умственной отсталости и психопатии.
A. Коллизия моральной и юридической ответственности в случаях психопатии
Особенно полезен в качестве иллюстрации феномен психопатии[44]. Именно в отношении этого феномена проявляется коллизия юридической и моральной трактовок ответственности. Множество современных аналитических философов и психологов (Г. Ватсон, Д. Шумейкер, Н. Леви, С. Морс) считают, что психопаты не являются полностью ответственными моральными агентами. При этом в юридическом плане ответственность психопатов почти не подвергается сомнению. К психопатам применяются даже самые жесткие меры наказания, вплоть до смертной казни и пожизненного заключения. Значит ли это, что соответствующие законы сильно устарели и необходимо смягчить меры наказаний для психопатов? Или, наоборот, что критерии для «общества моральных агентов» философами применяются слишком строго? Наконец, может, допустима коллизия юридической и моральной трактовок ответственности?
Мне кажется, что этой коллизии быть не должно. Моральная и юридическая ответственность строятся на общих основаниях. В системе юридической ответственности наказание выполняет четыре основные функции: устрашение, ограничение дальнейшего возможного ущерба, реабилитация и воздаяние. Первые три функции имеют утилитаристское, прагматическое, направленное в будущее значение. Эти функции тривиальны и могут быть реализованы не только в отношении личностей, но любых агентов.
А вот последняя, четвертая функция наказания специфична. Кажется, чтобы ее реализовать, агент, в отношении которого она реализуется, должен обладать особенными свойствами. Он должен обладать компетенциями морального характера. Функция воздаяния имеет деонтологическое значение. Она направлена на установление справедливости как таковой, она направлена в прошлое. Но невозможно вершить справедливость в отношении того, кто абсолютно невосприимчив к категории справедливости. Аналогичное мы видим и в отношении моральной ответственности.
Моральная ответственность предполагает наличие у агента некоторой моральной компетентности. Соответственно, юридическая и моральная ответственность применимы в отношении одной особой группы агентов. Агенты, не подходящие для воздаяния, не могут быть ни морально, ни юридически ответственными. А значит, существующая коллизия должна быть разрешена. Но в чью пользу? Оправданно ли освободить психопатов от моральной и юридической ответственности, отказав им в статусе личности? Или нужно санкционировать применение этих видов ответственности в отношении психопатов?
B. Психопатия как расстройство личности
Психопатия – это разновидность «диссоциального расстройства личности». Это не столько болезнь, сколько тип характера. Диагностика психопатии осуществляется с помощью вопросника, который направлен на выявление определенных стереотипов поведения. Среди этих стереотипов – ненадежность, лживость, отсутствие переживаний вины и стыда, крайняя эгоцентричность и убежденность в собственной значимости, отсутствие склонности к глубоким и долгосрочным межличностным отношениям, отсутствие долгосрочного планирования, склонность манипулировать людьми, отсутствие сопереживания, импульсивность и проч. У психопатов отсутствует эмпатия – способность понимать чувства других и сопереживать другим людям. Психопаты, судя по всему, не переживают «сложных эмоций»: чувства вины, стыда, сожаления. Вследствие этого психопаты часто совершают аморальные поступки и преступления.
При этом основные когнитивные функции у этих преступников соответствуют норме. У них полностью развито мышление, память, существует система ценностей. Только система ценностей у них эгоцентрическая. Преступления психопаты совершают не под воздействием бредовых состояний, а полностью отдавая себе в них отчет, преследуя собственные цели. Мотивом антисоциального поведения психопатов является обогащение, повышение статуса или удовлетворение сексуальных желаний [Cornell, Warren, Hawk et al. 1996], то есть вполне «рациональные» соображения.



