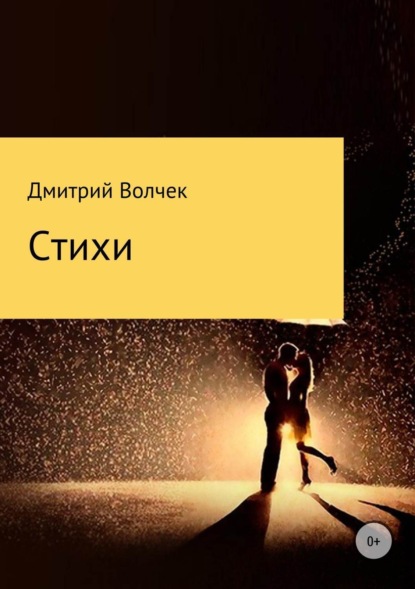 Полная версия
Полная версияСтихи
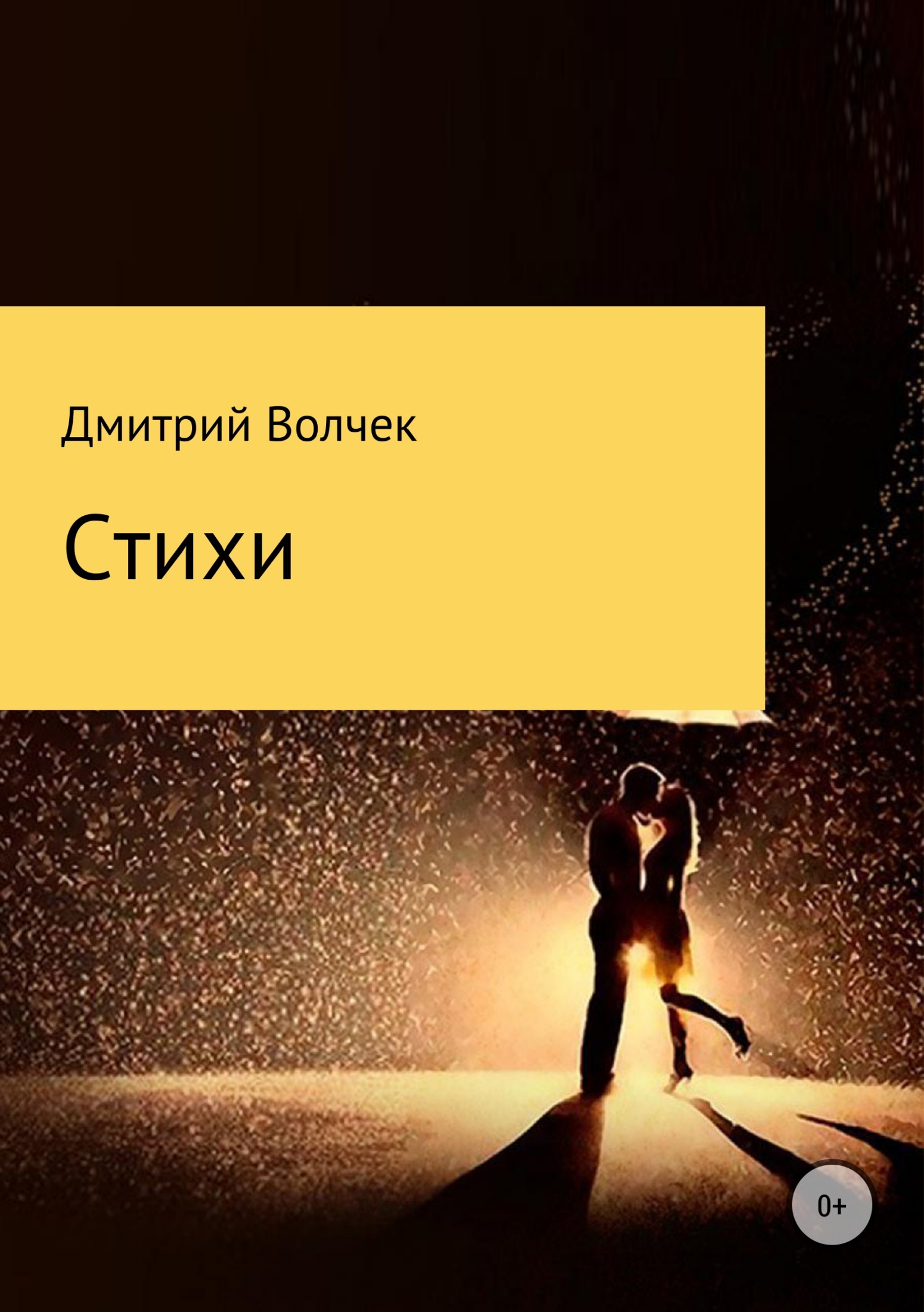
ХАБАРОВСК
Весенний город, узница тревог,
непонятых; последняя обитель:
как ты стремишься подвести итог,
как бы навек оставшийся в обиде.
Пусть нам с тобой не верится, но сам
себе я удивляться не устану -
пристрастию к холодным поездам,
к заброшенным и диким полустанкам.
Наверно, горькая отрада есть
в незапланированных мной командировках.
Но я услышу, как благую весть,
твой ровный гул, взывающий неловко.
Свою причастность бережно храня
к моим нелепым и смешным историям,
ты воскресишь забытого меня,
моими голосами жадно вторя.
* * *
О. Смирновой
Города – перекрёстки судеб.
Мы с тобой не жертвы, не судьи.
Мы с тобой – просто крики чаек
за окном над промозглым чадом.
Спит душа твоя среди лилий.
Чуть вздымается грудь залива.
И сквозь нас, как сквозь дымку в лете,
плывут голоса столетий.
Ты – дитя моё. Это значит:
не совсем я ещё растрачен,
лишь на неба клочки разорван,
на косынки, на смех и ссоры.
Ты меня на "Приморской" встретишь.
Будем жить. Ты и я. И третий.
Бог ли он или наш ребёнок –
все равно начинать с пелёнок
жизнь, о которой помнишь тем чаще,
чем меньше прячешься в настоящем.
* * *
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЕ
Я уже не знаю, какие немые лица
по ночам извечный прибой
заставляют смолкать.
Но я доверяю свои тайны
всем, кто хочет их слышать.
И уже ничего, ничего, ничего
ни взять, ни отнять.
И уже ничего, ничего
ничего не запомнить.
Вспоминать нечем, но это –
просто побег
от тоскующих листьев,
запачканных воздухом сонным
и встречающихся
на поворотах рек.
На поворотах судьбы –
или это опять повторенье
города, голосов, безлюдности
и пробуждений
в холодном доме,
с одинокой перчаткой в холле,
листающей –
какие-то страницы, что ли?
* * *
РОМАНС
Бывало: словно оживёт весна,
в рассветах вся, в капелях и напевах:
и вот опять мешались краски сна,
и ты опять сияла королевой!
А за окном – метёт, метёт февраль,
и город весь простужен и рассержен…
А на душе – узоры серебра,
и сердце бьётся в такт с любимым сердцем.
А жизнь – она по-прежнему светла,
и светлых слёз своих, смеясь, не прячет.
И верится: всплакнут колокола,
прольётся в руки блеск осенних прядей.
Меня сквозь бред, сквозь годы позови:
ведь не навек же птицы мая скрылись!..
Ведь мы – всего лишь крылья для любви,
изломанные, скомканные крылья.
Но я пройду сквозь тернии в наш дом,
где ты всегда сияешь королевой…
И вырастем из плеч любви вдвоём:
я справа, ну а ты – наверно, слева.
* * *
Я говорю бескрылью дум "прощай",
я выхожу из этого сегодня.
Пусть дождь из белых лепестков и белый чай
в тебя вольют печаль мелодий.
Мне не запомнить этих лёгких черт
твоих – но знаю: смерти нет на свете.
Ведь если нас не будет – то тогда зачем
дождь тихих звёзд летит в наш ветер?
И для чего тогда в твоих глазах
такой полёт – и дождь, и снег, и север?..
И на сосцах твоих жемчужная роса
так безупречна и осення.
Как сердце из двух жарких половин,
мы космос возрождаем ежедневно.
На тонком краешке серебряной любви
не стой – шагнёшь случайно в небо…
* * *
Дома – и крыши, крыши, крыши, крыши…
И боль моя уже совсем как сон тиха.
А время поднимается и поднимается всё выше,
почти что вровень становясь стихам, стихам,
стихам…
Я помню тех, кто мне не стал невестой,
и белоснежный смех, и города, колёс речитатив.
Пусть мы летим стремглав
кометой в неизвестность –
как символ веры, слово "жизнь" горит в груди.
Так хватит эту жизнь откладывать на завтра –
уеду, устремлюсь за солнцем, за весной!
Эскизы тишины пролью на чистый лист вокзала,
потом вернусь: за осенью – и этой тишиной.
В один из дней, когда прощальные берёзы
на лик любви серебряную бросят тень,
я упаду звездой на виа долороза –
и всё, что было, вдруг окажется иным, не тем.
Дома – и крыши, крыши, крыши, крыши…
Любовь моя уже совсем как мир тиха.
А время поднимается и поднимается всё выше,
почти что вровень становясь стихам, стихам,
стихам…
* * *
Отпустите меня с миром, закаты!
И осенняя одень тишина.
Жизнь расхватанною стать на цитаты
хочет больше, чем иного рожна.
Пусть я нищий и бездомный романтик,
пусть и каина печать на челе –
но я пыль вдыхал степных хрестоматий,
но я верен был любви и земле.
С обнажённым и распластанным сердцем
жить – да так, чтоб неба край целовать! –
вот мой путь средь русских единоверцев,
хоть в молитвах я исправил слова.
И душа полна, как вечером синим,
как проросшим сквозь фантомы быльём,
мифологией трёхцветной России
и щемящею трёхрядкой её.
Да, я свой! Не публицист оголтелый,
не копеечный ура-патриот…
Знаю я своё бессмертное дело:
слушать сердце – если сердце поёт.
* * *
Как сладко быть моею девочкой,
любимой самой, золотой…
Взять чистый мир с познанья дерева,
словно весенний баккурот, в ладонь.
А впрочем, как мне знать?..
Почувствуй: время
растёт из нас как странные цветы.
Я дам тебе гомеровское зрение:
как крылья мифа жизнь увидишь ты…
В моей квартире свет… Хотя нет света,
ни света – ни самой квартиры нет.
Да, нелегко бездомного поэта
любить, с его печальной ношей лет.
Да не поэт – так… разжигатель солнца,
хранитель тишины в твоих глазах.
Давай с тобою крадучись вернёмся
на жизнь назад, на музыку назад.
Давай возьмём снежинок танец зыбкий,
подержим, как ребёнка, на руках.
Два сердца – как две маленькие скрипки,
летящие взахлёб сквозь облака.
* * *
Послушай, чуточку послушай,
рукой шум листьев отодвинь.
Мы там, где плачут наши души,
а значит – в осени, в любви.
Печальный шар, хрустальней слова –
он стал нам домом навсегда.
И мы летим куда-то, словно
нам крылья – судьбы, города.
Прошу, не надо пустословья.
Сотри на сердце, как пустяк,
всю жизнь…
впиши меня – не кровью,
но иероглифом дождя.
Возьми в ладонь моё ненастье.
Смой слёзы, годы – будто грим.
Мы разгадаем слово "счастье",
пока летим… пока летим.
* * *
Смотри: Земля свой тяжкий шар вращает,
живая, безмятежная вполне.
Ты помаши ей, милой, на прощанье –
мы улетаем в белый, белый снег.
Она как трепетный эскиз на чуде,
рассвета кровью в тихом серебре:
игрушечные города и люди –
как куколки из прошлых сентябрей.
И я на ней, весь в этом снежном глянце
и вмёрзший, словно в лёд, в глаза твои,
себя не укорю – грех удивляться! –
за глупую приверженность любви.
Ей только снегопад созвучным станет –
и грань сотрёт между собой и мной.
Жизнь – это ты… и пламенность, и тайна,
и боль, и слёзы, и восторг земной.
* * *
MJ
Грудь, талия, точёное плечо:
изгибы чувственные, как у скрипки!
А ночь рифмуется с твоей улыбкой,
неоновым гекзаметром течёт.
Я лишь тобой, твоим дыханьем жив,
я в волосах твоих исчез упругих.
Качнутся бёдра – и качнутся руки
танцующих нам многоруких шив…
Так поцелуй в волнении слепом
край вечности достанет из потёмок.
Как серебристой музыки котёнок,
так на руки попросится любовь!..
Я не блещу провидчеством сивилл,
но я могу, могу тебя касаться:
как бы крылом божественного танца,
который это счастье сотворил.
Шепни "люблю" – и словно грянет гимн!
Дождь, абрис губ – и больше нет былого:
пласты вселенной маленькое слово
сдвигает, чтобы стал весь мир другим.
* * *
А без меня не будет ничего.
Ведь ждёт закат тепла моих ладоней –
и без моей печали ключевой
в безмолвии забвения потонет.
Мы выросли в созвучии одном –
мой юный мир и я: нас двое.
Пусть станет он моим прекрасным сном,
я – крыльями его, его покоем.
Ведь без меня не пропоют огни
вечерних улиц соул, блюз и вальсы –
в чьём камертоне смогут так они
случайно и красиво отзываться?
Мне столько тишины не взять с собой,
любви и жизни не раздать избыток!
Я знаю место в небе голубом,
где осенью моя душа забыта.
Кто будет знать, что он – всего лишь часть
и капелька из океана жизни;
и с набережных тихих подмечать
волн откровений радужные брызги?
Ведь я – не только я: в глазах его –
или её – таится тот же пламень…
Нет, без меня не будет ничего.
Я – бытия краеугольный камень.
* * *
Она во мне случайной гостьей
дарует небо и покой –
и чуда рассыпает горсти
осенней ветреной рукой.
То в зеркало зимы посмотрит,
то расшалится, как весна…
О жизнь, я на твоих подмостках
умру, любовь испив до дна!
За боль, за слёзы, за мученья,
за одиночество и бред
не прокляну – с благоговеньем
целую твой летящий свет.
Прекрасный лик твой меркнет всуе
порой: так грани бытия
под слоем варварских рисунков
шедевры гения таят.
* * *
Для поцелуев спозаранку
не хватит осени одной.
Нас снег разбудит – словно ангел
из чьих-то белокрылых снов.
И потечёт крахмальной мессой
меж серых обелисков дней,
потом застынет, будто нэцке
на полке в томиках теней…
Вот так опять зима случится
окном распахнутым в любовь,
дрожащей ямкой над ключицей
и неба жилкой голубой.
* * *
Мы в памяти ячейки помещаем
звук музыки и запахи дождя.
Нам осень улыбнётся на прощанье,
Хабаровск мой с любовью обходя.
Когда-нибудь мы выплывем из жизни
на острова голубоглазых дней.
Ты выплакала город до снежинки,
до бирюзовой ленточки своей.
Пусть так нельзя, пусть это очень странно:
огни и вальсы; плечи, смех, заря…
Дай, я тебя тихонько наиграю
на дудочке амурской ноября.
Мы нечто больше неба позабыли –
чем изнутри, любя, озарены.
И словно ангел сломанные крылья,
мы в прозу утра сбрасываем сны.
Ты расскажи, о чём поёт душа, мне
и наготы сияньем удиви.
Пусть нам зима, грустя, не подмешает
в дыханье слов дыханье нелюбви.
* * *
Я встретил Новый Год бомжом,
скитаясь средь толпы народа:
как будто бы в краю чужом –
на родине своей безродной.
Мелькала новь, гремел салют –
и Медный Всадник был усталым.
Бесснежно-тихое "люблю"
с губ ангела на пьедестале
слетело под ноги. Никто
не видел, не был им отмечен…
Я думал: лет так через сто
оденут все тот, подвенечный,
наряд из савана. Уйдут
в иные измеренья, дали,
забыв в космическом бреду,
дышали чем, о чём мечтали.
Другие будут пить, гулять…
Бушуй, натужное веселье! –
с хлопками пробок, чьим-то "****ь"
и взглядом тупо окоселым.
А я?.. Я разве не умру?
Чем я убогих этих лучше?
Духовный, напряжённый труд
даст мне бессмертья звонкий ключик?
А если нет – зачем тогда
порой в предчувствии глубоком
восторг, любовь и красота
мой мир взрывают синеоко?
И кажется: вся эта жизнь –
лишь репетиция, экзамен;
а ты не гость, не пассажир –
но знаешь к солнцу путь, сквозь замять!..
Взметнётся стук колёс: пока!
Снег – словно вечный, чистый разум.
И жизнь загадочно легка,
как неоконченная фраза.
* * *
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Я столько раз его встречал – и всё же
он выпал так по-новому, легко.
И хочется шепнуть от счастья: боже…
Мой первый снег. Коснусь его рукой –
и в сердце оживут немые годы,
когда читал по буквам, ставил "плюс"…
Слетел он вниз, весь белый и свободный,
письмом от неба: я… тебя… люблю.
* * *
Это город, в котором не слышно имён,
только скрипка и ветер.
Чудеса – это я, это ты, это он,
это крылья дождя на рассвете.
Это значит – любить, это значит – гореть!..
обнимая тоской побледневшую землю.
Это значит проснуться с душой в сентябре,
листопад отхлебнувшим как зелье.
И опять в чьих-то тонких как осень руках
этот мир – как волшебная флейта.
Это значит: танцую я, как облака,
над меня не дождавшейся смертью.
* * *
ПИТЕРСКОЕ
Я не сойду с ума, не захлебнусь отчаяньем,
пока над головой моей, как нимб,
твоей державной осени не отзвучал ещё,
о город судеб звонких, достославный гимн!..
пока я не напился допьяну легендой
твоих балтийских шорохов, луной…
Поговори со мной, своим апологетом,
ты, в чёрный жемчуг превративший ночь.
Я распластаюсь сном гранитным, прозорливым
по тёплой памяти твоей, врасту в твой фильм…
добавь меня крупиночкой молитвы
к своим осенним чёткам дождевым.
* * *
Всё было, всё рассказано и спето.
Я будто бы листаю календарь:
вот на картинке отзвенело лето,
а здесь –
белым-бело. Снега. Январь.
Всех осеней торжественная стая
летит на север, на восток, на юг.
Так журавли, серебряно взлетая,
как будто заклинание поют.
И кажется, повисло каплей время
на краешке пространства – и вот-вот
на глади золотой стихотворенья
цветок любви божественно всплывёт…
Ах, как же это всё неповторимо:
дождём омытый полдень голубой,
изменчивая прелесть розы мира,
и листопад, и первая любовь.
Ах жизнь, ты неоконченная фраза!..
Твой чистый не унять в крови пожар –
ведь нам расстаться так безумно жаль
лишь с тем,
что так мучительно прекрасно!
* * *
Белая чайка – душа разлетелась над морем.
Может быть, чайка, а может быть, ангел усталый…
Снова два слова сольются: memento и mori…
Я убегу от любви в слабоумие, в старость:
буду бежать на людей, словно тени от фары,
буду топить свои сны в чёрных осени лужах!..
Лучше вернись… Это время надежды и фарта,
это наш маленький бог, самый горький и лучший.
Лучше вернись… Я люблю эти белые руки.
Память – ты дверца. Пусти меня! Можно? Я помню:
грудь и живот, эта влага, и губы, и звуки…
шёпот любовный, о призрачный шёпот любовный!..
* * *
Но не тем холодным сном могилы…
Я б хотел навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь.
М. Лермонтов.
Снега уже скоро растают.
Земли вон проглянула пядь.
Мы неба лучистую тайну
целуем опять и опять.
Грустнеем – и как к незнакомцам
к каким-то рассветным себе
сквозь зеркало времени рвёмся,
увязнув в его серебре.
Мы к звёздам идём через женщин,
к истокам приникнуть спешим.
Боимся уйти – но не меньше
пугает нас вечная жизнь.
Как в детстве мечталось, уметь бы,
проталин дыша волшебством,
сиять между жизнью и смертью,
как музыка и божество.
Извлечь из трагедий катарсис,
мир магией слов обновить…
И жизни, и смерти касаться
прекрасной строкой о любви!
* * *
Утро такое, как будто душа танцевала
тихо всю ночь, задевая крылом Млечный Путь.
Будто ей белых стихов и подснежников мало,
первой любви – и чтоб рядом грустил кто-нибудь.
Грусть – это нежность, с которой на нас смотрит время,
мудро внушая, что всё в этой жизни не зря.
Хайку дождя. И опять, скромной радостью грея,
бабочки в сердце влетают из рук сентября…
Тайно в мой сон заходи, лебединая песня,
звёзды просыпь, ослепи волшебством города.
Значит – дрожать на ветру паутинкой небесной,
значит – любить, расставаться, простить навсегда.
Утро такое, как будто душа танцевала
тихо всю ночь, мудро слушая хайку дождя.
Время и нежность. И звук белоснежного вальса –
и одиночества бабочки в сердце летят.
* * *
КОЛОКОЛЬЧИКИ
Я люблю время колокольчиков.
А. Башлачёв
А зима меня ведёт, как слепого,
по проторенному господом снегу.
Жизнь моя –
то просто маленький повод
серебром звенеть вольному небу.
А гусляр или певец рок-н-рольный –
он спешит порой к бредовому раю.
Но потом, как перестанет быть больно,
в колокольчиках душа заиграет.
Петербургским одомашненным дымом,
тихим облаком летит над страданьем…
Только ветры да метели седые
колокольчиками тоже рыдают.
Ведь душа – она как песня и крылья,
да тоска, да губ весёлое пламя.
А внутри меня бушует Россия
да пылает колоколами.
* * *
Румяной корочкой солнца доволен и сыт,
оставлен богами, людьми, провиденьем, отчизной,
я сквозь абразивы старинных мелодий очищен,
и гринвич мой лёгкий – незримых событий часы.
Я меньше микрона – и больше, чем уйма светил;
во мне догорает надеждой пшеничное лето.
И бабочки слов неотпетых колышутся ветром,
во славу любви – я ведь ей все слова посвятил.
* * *
Снега чувств ароматная горстка,
с лет слетают чешуйки коры…
Всё мне кажется: вечным подростком
я на санках съезжаю с горы.
А по дну синеватых оврагов
незамёрзший стекает ручей.
Солнце – древний умолкший оракул –
дни листает, что твой книгочей.
И струятся сквозь иней легенды,
и колышутся тени ветвей;
дуб – как серый таинственный гэндальф,
ну а санки – резвей и резвей!..
Безмятежность лазурной свободы
дышит близкой (далёкой) весной.
Никакие нависшие годы
не затмят этот блеск надо мной.
Я внутри тот же самый ребёнок,
хоть хлебнул и тюрьмы, и сумы.
И из сотни случайных обёрток
достаю сердце русской зимы.
Жизнь – как быль приамурского края,
бесконечна, щедра и проста.
И посыпана солью, и тает
заскорузлая душ пустота.
* * *
Милая, меня ты не услышишь.
Ты меня не любишь, не придёшь.
Будет только грустно в голых вишнях
ворошить воспоминанья дождь.
Жизнь ворвётся вздохом на рассвете,
растревожит тонкий призрак штор…
О тебе как о своей невесте
мне не думать сложно до сих пор.
Пусть ты далеко – но ты живая:
это в грудь мне льётся, как теплынь.
Страшно то, что тихо забываю,
как под платьем девушки светлы.
Страшно то, что превращаюсь в шёпот,
в тень свою, в улыбчивый фантом –
и живая прелесть женской попы
мягко мне не холодит ладонь.
Ты, что так сияешь лучезарно,
не для секса только мне нужна.
Просто мне эротика – как карма:
больше неба и волшебней сна.
Не в каких-то модных инстаграмах
и не на плакатах площадных…
Барельефы в индуистских храмах –
мы с тобой в них изображены.
* * *
Я слышу – поют соловьи,
смотрю, как грустнеют берёзы…
во всём вижу лики любви,
и губы, и платья, и слёзы.
И вечно наш мир красота
спасает, спасает, спасает –
и сходит всё небо с креста
и плачет взахлёб чудесами.
Я вспомню, таинственный друг,
когда доберусь до тетрадей,
твои очертания рук,
твои цвета осени пряди.
Я помню: да, осень была –
и ты… Или просто, унылый,
я жаждал любви и тепла –
и ты мне, как ангел, приснилась?
А может, я сам, в пору ту
тобой в серебре поцелован,
способен создать красоту
из облака, осени, слова…
* * *
Не я – но боги Балтики хотят
разбавить жизнь прозрачностью искусства,
слезами скрипки окропить октябрь –
пускай с дождём слегка пересекутся…
Я знаю, ты всю жизнь меня звала,
звалась: судьба, эвтерпа, мнемозина…
уже твои два трепетных крыла,
любовь, во мне печалью плещут зимней.
И так безумно нам чего-то жаль
в краю ещё не сбывшихся пророчеств:
окна в европу белую вуаль
мы называем нежно белой ночью.
В июньском небе тёплым молоком
она лилась – и северным сияньем.
А в октябре так ясно – и легко
от сердца к сердцу мерить расстоянье.
Особенной, осенней мерой ты
его отмеришь, тонкими штрихами:
оно чуть бесконечней красоты,
оно всего лишь ровно в пол-дыханья.
* * *
Сердечко золотистое твоё
я выпущу, как птицу, в мир бездонный.
Нам тихо на заре любовь поёт
серебряным всей жизни камертоном.
И что-то неподвластное уму
мелькнёт осенне в зеркале полдневном…
Мне даже руки станут ни к чему –
я прикоснусь к тебе мечтой и небом.
Ты распахни балкон, прохлада пусть
обнимет нас, как чудо жизни, голых…
Грусть – это нежность, нежность – это грусть
рифмующихся с осенью глаголов.

