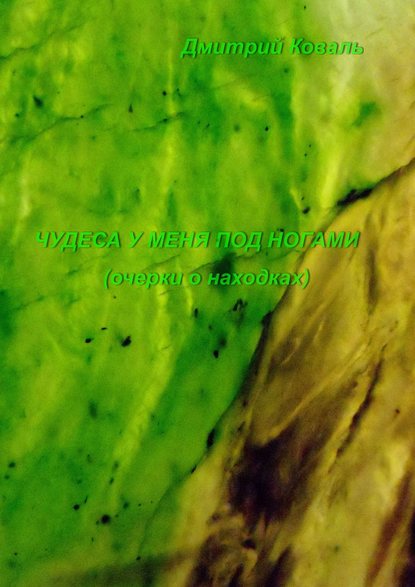
Полная версия:
Чудеса у меня под ногами. Очерки о находках
В наше время месторождения золота со столь крупными самородками уже давно выработаны, и всё чаще человечество довольствуется россыпями и рудами, концентрация золота в которых составляет единицы граммов на тонну породы.
Однако «золотой» голод человечеству вряд ли грозит. Дело в том, что золото – весьма распространённый элемент в природе. И весьма распылённый…
Золото окружает нас повсюду: в небольших концентрациях оно содержится в почве, грунтовых водах, даже в растениях и животных. В растения оно попадает вместе с солями, растворенными в грунтовых водах, а с растительной пищей поступает и в организм животных. В золотоносных районах деревья содержат от 0,6 до 6 мг золота на тонну сырой древесины. В каменном угле золота может содержаться до 10 мг на тонну.
По подсчётам исследователей, в среднем в 1 кубическом километре горных пород содержится почти 14 тонн золота, а в 20-километровом слое земной коры его почти 100 миллиардов тонн. Обнаружено, что антарктический вулкан Эребус выбрасывает в воздух вместе с пеплом тончайшую золотую пыль. В день из кратера вулкана вылетает порядка 80 граммов драгоценного металла. А по наблюдениям французских ученых, вулкан Этна на острове Сицилия ежедневно вместе с пеплом выбрасывает в атмосферу в виде мельчайших частиц 2,5 кг золота.
Концентрация золота в железных метеоритах достигает иногда 5—10 граммов на тонну. Ежегодно в атмосфере Земли распыляется около 3500 тонн метеоритного вещества, в котором находится примерно 18 килограммов золота. Следовательно, только за последний миллион лет в земной атмосфере было распылено 18 тысяч тонн золота, большая часть которого в конечном итоге попала в Мировой океан.
В водах Мирового океана концентрация золота варьирует в широких пределах – от 3,65 мг до 60 мг в 1 кубометре. Только из Амура в Татарский пролив ежегодно выносится около 9 тонн золота. По подсчётам специалистов, в воде Мирового океана должно содержаться до 27 миллионов тонн золота. Современные технологии позволяют добывать золото из морской воды, но издержки производства при этом не оправдываются стоимостью добытого таким образом драгоценного металла. Так что сегодня нам нужно поработать над новыми технологиями добычи золота, чтобы не остаться на «голодном пайке» в будущем.
Развал экономики страны в начале 90-х годов прошлого века внёс свои негативные коррективы в судьбы миллионов людей. Не обошла эта участь и меня. После окончания техникума я не смог устроиться на работу по специальности. В то время в Украине уже было весьма сложно устроиться на работу вообще, хоть куда-нибудь. Приходилось перебиваться временными заработками. Родители настаивали на моём переезде в Пермь. Там, по их мнению, у меня было гораздо больше шансов достойно устроить свою жизнь.
Хотя в Перми жили наши родственники, и моя сестра вышла там замуж, я страшился грядущего переезда. Несмотря на то, что родился я на Урале, Кременчуг, Украину считал своей родиной. Бессрочная разлука с родными местами, с друзьями, со всем тем, к чему прикипел с детства, казалась мне равноценной смерти.
За три месяца до отъезда ко мне в голову пришла идея организовать в Кременчугском краеведческом музее «прощальную» тематическую выставку – «Золото в природе». Всё лето я собирал, редактировал и перепечатывал на пишущей машинке познавательную информацию о природном золоте. Пригодились образцы с самородным золотом, привезённые с Алтая, а также образцы пород и минералов, сопутствующих золотому оруденению, привезённые с Чукотки и из Узбекистана. Сотрудники краеведческого музея оказали мне техническую помощь в подготовке экспозиции.
Осенью, буквально за несколько дней до моего отъезда, выставка тихо, без высоких речей, открылась. Правда, говорят, был показан сюжет о ней по местному телеканалу. А спустя два месяца в местной газете появилась заметка о выставке, написанная Натальей Валентиновной Музыченко, сотрудницей отдела природы краеведческого музея.
Говорят, выставка имела большой успех – на фоне традиционно малой посещаемости провинциального краеведческого музея. Не знаю, посещал ли её кто-нибудь из тех, кто прежде с насмешками и иронией относился к моему увлечению. Однако я был безмерно счастлив привести на выставку свою бывшую одноклассницу, Аню, к которой испытывал трепетные чувства ещё со школьной скамьи. Она с любопытством рассматривала камни в витринах и внимательно перечитала все информационные листки на стендах (плод моего анализа геологической литературы и газетных публикаций о золоте). Неподдельный интерес в её глазах был для меня, пожалуй, главной наградой.
Работу по специальности я не нашёл и в Перми. Всюду на предприятиях шли сокращения. Сокращали и геологов. Мне повезло, что я смог устроиться шлифовщиком в цех по производству облицовочных плит из натурального камня. Работа была тяжёлая, в сыром и почти не отапливаемом цехе, на разбитом старом оборудовании, но всё-таки с камнем. Оптимизм внушало то, что директор, ознакомившись с моим дипломом, обещал мне в будущем, когда предприятие начнёт развиваться, работу по специальности. Более того, он красноречиво убеждал, что сделает из меня «первоклассного специалиста». Надо было только переждать у станка период всеобщего кризиса.
Один из рабочих нашего завода оказался бывшим золотодобытчиком. В прежние годы он работал в старательских артелях где-то в Сибири. Работал бы, по его словам, и дальше, но был вынужден вернуться домой из-за болезни матери. Узнав, что я геолог, он стал учить меня «разуму»: мол, пока молодой и здоровье позволяет, надо ехать на Север и «загребать деньги лопатой» в старательской артели. И я уже был готов воспользоваться «заветными» адресами, которыми меня снабдил бывший артельщик, но в последний момент меня отговорил от этого шага Александр Алексеевич Болотов, старый пермский геолог.
С Александром Алексеевичем мы познакомились в краеведческом музее. Готовясь осваивать просторы Пермской области, я нуждался в добром советчике. В поисках такого советчика пришёл в краеведческий музей. А там мне указали на Болотова…
По мнению Александра Алексеевича, ничего хорошего меня на Севере не ожидало. Золотодобывающая отрасль тоже переживала кризисные времена, и старателям не платили деньги, как и всюду по стране. Мне сразу вспомнилась история моего отъезда с алтайской практики, когда я, не получив расчёт, был вынужден добираться домой, на Украину, автостопом. Восемь суток пути без нормального сна и пищи, десятки попутных машин…
В общем, я решил не испытывать судьбу…
А весной Александр Алексеевич повёл меня в геологическую экскурсию по окрестностям города. Интересно было узнать из его рассказа, что в пермских песках содержится золото – до 2 грамм на тонну. По современным меркам – промышленная концентрация! Но «мыть вручную – на хлеб не намоешь».
Тем не менее, несколько золотых чешуек, – так называемых знаков – намытых старательским лотком из пермских песков могли бы украсить мою коллекцию. Но, к сожалению, лотка у меня не было, да и не было опыта работы с ним. Геологам лоток часто требуется для промывки шлихов. Но во время прохождения практики – что на Чукотке, что на Алтае – необходимости промывать шлихи не возникало. Лишь однажды на Алтае, один геолог, Сергей, на досуге решил провести для меня «мастер-класс» по работе с лотком. Мы пришли на берег речки Синюхи, где в былые времена «кормилось» золотом всё местное население, и приступили к работе. Много золота Сергей мне не обещал, так как весь песок Синюхи в «застойные» годы был перемыт драгой. Но отдельные золотые чешуйки, по словам Сергея, встречались здесь почти в каждом шлихе. Я был уверен, что у меня получится. После нескольких показательных операций Сергей передал мне лоток с наполовину промытым шлихом. Среди других песчинок он успел заметить на его дне золотую чешуйку. Мне надо было завершить начатое дело. Завершить-то я кое-как завершил, но когда Сергей проверил мою работу, самого главного – золотины – среди шлиха не обнаружил.
– Вот это да! – изумлённо произнёс он. – Чтобы смыть из лотка золото – это надо постараться!
Тренировать меня у него не было времени. А я и не расстроился, поскольку гораздо лучше у меня получалось находить золото при помощи молотка.
Золото Алтая врезалось в мою память ещё одним загадочным наблюдением. В процессе отбора образцов в «золотом» карьере мои глаза постоянно невольно замечали проносящиеся со скоростью молнии тонкие изгибающиеся тени. Они возникали только на поверхности камней. Подобные тени изредка мне виделись и прежде, в гранитных карьерах Житомирщины. Вначале я думал, что мне это кажется – что-то в глазах зарябило. Но на Алтае отпали все сомнения: тени «настойчиво» проносились перед моими глазами одна за другой, и их уже невозможно было игнорировать. Я заподозрил, что мои глаза фиксируют нечто запредельное. «Может это визуальные проявления энергетики камня?» – мелькнула у меня робкая догадка.
В студенческие годы я общался с Галиной Геннадьевной Павловой, петрографом, преподавателем Киевского университета. В своих исследованиях она сосредоточилась на теме «тонкой» энергетики минералов, развивала теорию неких «трансмутаций» химических элементов, доказывая при этом, что одни минералы могут превращаться в другие, кардинально изменяя свой химический состав без привноса-выноса вещества. Сторонником развиваемой ею теории я не стал – слишком радикально она расходилась с традиционными научными представлениями. Но что-то из этой «ереси» – допускал я – в природе могло иметь место. Впрочем, несмотря на различия в наших убеждениях, с Галиной Геннадьевной всегда было интересно общаться. Выслушав мой рассказ о скользящих по поверхности камней тонких тенях, она с уверенностью констатировала: это визуальные проявления энергетических импульсов минерального царства. Иными словами, я видел то, что другим видеть не дано.
Но почему я видел эти энергетические всплески преимущественно над поверхностью образцов с золотом? Потому что золото по сравнению с другими минералами обладает повышенной энергетикой? Или, может, я от природы настроен на «волну» этого минерала?
Спустя годы судьба свела меня с интересным попутчиком. Я возвращался из очередного экстремального похода за минералами. Поезд «Киев – Москва» едва тронулся от перрона, как мой пожилой, но бодрый духом сосед по купе завёл со мной беседу. Оказалось, он был сотрудником какого-то НИИ, занимавшегося разработкой приборов для защиты человека от различных негативных излучений, в том числе от психотронного оружия. Кроме того, в прежние годы он учил бойцов спецподразделений искусству выживания в экстремальных условиях. По его словам, в ходе служебных командировок он облазил все горы Советского Союза. Так что мне подвернулся крайне интересный и полезный попутчик. Собственно, наш разговор и начался с его замечаний в адрес моего увесистого рюкзака…
Говорили мы с ним до глубокой ночи (благо, что на стациях никто к нам в купе больше не подсел). Переходили от темы к теме. И поскольку мой собеседник оказался весьма компетентным в вопросах, касающихся взаимодействия человека и «тонкого мира», я рассказал ему о своих алтайских наблюдениях – о мелькающих тонких тенях над образцами с золотом. Мой рассказ его не удивил. Более того, он с оживлением отметил, что ранее уже слышал нечто подобное от геолога, открывшего Клёсовское месторождение янтаря в Ровенской области. Своих коллег тот якобы поражал тем, что чисто интуитивно мог указать на скопления янтаря в том или ином месте. И практически безошибочно!
Вспоминая как «липло» золото к моим рукам на Алтае, я снова взгрустнул о том, что смог бы, наверное, успешно работать в золотодобывающей отрасли. Может, даже открыл бы где-нибудь целое месторождение. Но однажды попытка устроиться на работу в старательскую артель оставила у меня весьма неприятный осадок…
Золото часто называют «жёлтым дьяволом» – и для красоты словца, и для того, чтобы списать на его счёт причины едва ли не всех человеческих бед: мол, это золото во всём виновато, а человек – всего лишь его жертва. Но, на мой взгляд, металл здесь ни при чём. В бедах людей виновато не золото, а человеческие пороки, и в частности алчность. Даже если золото как-то и связано с дьяволом, то оно в его руках играет роль всего лишь увеличительного стекла, через которое тот рассматривает человеческие души, и прибирает к себе только тех, в ком разглядел «свой контингент». В то же время во многих древних цивилизациях к золоту относились как к божественному символу Солнца. Вот и в наше время купола православных храмов покрывают золотом. Скептически отношусь к предсказательной астрологии, но кое в чём согласен с Павлом Глобой: золото не доброе и не злое – оно «наследует» характер своего хозяина. В руках доброго мастера оно превращается в прекрасные ювелирные украшения, в произведения искусства, в детали внутреннего убранства православных храмов и незаменимые детали сложных приборов. Для злого же человека золото – вечный объект зависти, жадности, средство обогащения, «окупающее» собой подлость, предательство, и даже пролитую человеческую кровь.
Лично же для меня золото, прежде всего, остаётся красивым минералом. Самородные металлы, вкрапленные в породу, вообще красивы. И хотя мне так и не довелось держать в руках настоящие золотые самородки, я всё-таки счастлив, что моя детская мечта осуществилась уже в той мере, в какой это было описано мною выше.
ДРЕВНИЕ КОСТИ
Однажды, когда мне было 9 лет, на берегу речки, протекавшей неподалёку от нашего дома, я подобрал обломок кости. Её вымыло из прибрежного ила по весне, во время таяния снега…
По легенде, в этой речушке купалась сама Екатерина Великая во время своего вояжа по Новороссийской губернии. Новороссией тогда назывались земли юга современной Украины, недавно присоединённые к российской империи после победы над Крымским ханством. А Кременчуг из пограничной крепости превратился на некоторое время в губернский город, столицу новой административной единицы. Командовал кременчугским гарнизоном сам Александр Васильевич Суворов. К приезду императрицы городу постарались придать столичный вид с потёмкинским размахом. Екатерине Кременчуг очень понравился. Не оставила она, якобы, без внимания и эту небольшую речушку. Спускалась она к ней, как гласит легенда, по белым мраморным ступеням. Мраморными плитами якобы было выложено и дно речки в том месте, где императрице было предложено искупаться.
Теперь в это трудно было поверить, поскольку речушка поросла камышом, затянулась ряской, а местные жители местами превратили её берега в свалку бытового мусора. В довершение к этому в неё периодически сливали канализацию. Стала гибнуть рыба. Я с друзьями пытался спасти мальков: вылавливал их сачком и выпускал в наполненную водой бочку, стоявшую в нашем огороде. Ещё у меня была мечта найти остатки мраморной лестницы, а также очистить дно речки хотя бы от металлолома с помощью «сильного магнита», который обещал принести один из моих друзей. Обещанный магнит он так и не принёс. И мне оставалось беспомощно созерцать, как речка продолжает превращаться в большую помойку.
Кости, белеющие в кучах мусора на её берегу, мне приходилось видеть и прежде. Но эта кость привлекла моё внимание необычным коричневым цветом, который, по моему мнению, однозначно свидетельствовал о её древности. В пользу древности кости свидетельствовали и пронизывавшие её трещинки. Некоторое время я хранил её в своей детской коллекции, пока не стал находить нечто гораздо более существенное…
Благодаря маме, работавшей в библиотеке медицинского училища, я с ранних лет имел возможность читать интересные книги. Причём больше всего меня интересовала археологическая тематика. Вряд ли это было только лишь потому, что я мечтал найти клад. С ранних лет меня живо интересовало то, каким был мир до моего рождения. Именно поэтому меня завораживали старинные вещи – они были молчаливыми свидетелями тех событий, которые происходили до моего появления в этом мире. Я завидовал археологам, выкапывавшим из земли древности. Само прикосновение к ископаемым раритетам мне казалось волшебным актом прикосновения к прошлому.
Рано заинтересовал меня и вопрос о происхождении человека. Уже во втором классе я прочитал первую научно-популярную книгу на эту тему, из которой узнал кто такие австралопитеки, питекантропы, неандертальцы и кроманьонцы. Несмотря на инстинктивный страх, испытываемый перед человеческими костями, мне страстно хотелось раскапывать в пещерах стоянки первобытных людей, а в школе, на уроках рисования я даже изображал в своём альбоме черепа неандертальцев. Древние инстинкты теснила детская любознательность…
Во время «раскопок» в огороде я порой находил мелкие косточки, и даже небольшие челюсти с зубами. Но то были останки кроликов, которых разводил дед, и которых мы любили кушать, а также, вероятно, останки кошек и собак, когда-то живших в этой усадьбе. Я понимал, что это не древние кости, и знал, что настоящие древности следует искать гораздо глубже, и может даже где-нибудь в другом месте. Но где?
Я грезил раскопками, но не знал, где именно следует копать землю, чтобы найти стоянки первобытных людей, древние города, затерянные сокровища, кости ископаемых животных. Опыт огородных раскопок говорил о том, что наобум можно копать долго, но безрезультатно.
С появлением в моей жизни Песчанского карьера ситуация изменилась. Прежде недоступные для меня земные слои были там обнажены на большом протяжении. Несмотря на название, в этом карьере добывался исключительно гранит. Имя же ему дало расположенное рядом село Песчаное. На гранитах лежали зелёные «глины», а ещё выше – желтовато-белые кварцевые пески. Поскольку пески залегали под слоями чернозёма и рыжеватой глины, сомневаться в их древности не приходилось. Но какова степень этой древности я понятия не имел.
Вопрос о происхождении и геологическом возрасте карьерного песка не давал мне покоя. Этот песок очень походил на тот, который слагал современные берега Днепра. Но от Песчанского карьера до днепровского берега было около трёх километров. Мне – в то время одиннадцатилетнему мальчишке – трудно было представить, что когда-то Днепр был настолько широк, что линия его левого берега проходила через село Песчаное. Но оказалось, что «расширять» русло Днепра до нескольких километров было совсем не обязательно: где-то я прочитал, что реки, подмывая берега, постепенно изменяют свои русла. В то, что русло Днепра могло за тысячи лет переместиться на три километра западнее, верилось уже легче. Но меня ещё смущало другое обстоятельство: чистые кварцевые пески были распространены на обширной площади восточной окраины города. Эта песчаная равнина с мелкобугристым рельефом, покрытая пятнами сосновых насаждений, отстояла от современного днепровского берега ещё дальше, чем Песчанский карьер. Обширные песчаные пустыри, зажатые между сосновыми лесами, невольно напоминали мне пустыню. И тогда я посчитал наиболее вероятной другую версию происхождения этих песков: они были оставлены древним морем.
В пользу этой версии свидетельствовал и факт находки акульего зуба в песке городского пляжа. А схожесть полуистлевших раковин, находимых в карьерном песке, с раковинами современных днепровских моллюсков, я объяснял тем, что морские моллюски с отступлением моря постепенно приспособились к жизни в пресной речной воде. Но всё-таки оставались некоторые нестыковки, попытаться решить которые можно было с помощью лопаты…
О раскопках в карьерных песках я помышлял неоднократно. Манящая своей белизной рыхлая песчаная толща – совсем не то, что плотный чернозём в огороде – копать её не сложно, и даже приятно. Однако находка, сделанная солнечным днём 1 мая 1981 года, предвосхитила мои намерения…
В тот день, воспользовавшись праздником, я отправился в притихший карьер, чтобы пополнить новыми образцами свою детскую коллекцию «полезных ископаемых». Уже, конечно, не помню, чем именно в этот день я разжился, но главная находка, сделанная почти под занавес моего путешествия, врезалась в память на всю жизнь. Вышагивая по взрытой бульдозером площадке, я случайно заметил у себя под ногами торчащий из песка кончик кости. Потянув за него, я с замиранием сердца вытащил на поверхность большой позвонок светло-жёлтого цвета. Затем, зарывшись руками в песок поглубже, нащупал там ещё одну кость, тоже оказавшуюся позвонком. Вслед за ним таким же образом извлёк на поверхность третий позвонок. Все три позвонка прекрасно сочленились друг с другом, образовав фрагмент позвоночника какого-то крупного животного. Кости отлично сохранились – вместе с позвонками из песка удалось извлечь и межпозвонковые диски. Канал, где размещался спинной мозг, был забит слежавшимся ржавым песком, содержавшим большое количество хрупких ракушек и полуистлевших растительных остатков.
В связи с этим принадлежность позвонков я сразу приписал древней акуле (тогда я ещё не знал, что у акул нет костей – их скелет состоит из хрящей). С величайшей гордостью я принёс найденные позвонки домой (в то время мы уже жили в городской квартире). Но родители не разделили моих восторгов. Мама потребовала, чтобы я немедленно унёс из дома эту «гадость». Пришлось нести свою находку к бабушке и деду, которые продолжали жить в частном доме.
Реакция бабушки на мои кости тоже была негативной. И хотя я не вносил их внутрь дома, а принялся очищать их от песка на лавочке под яблоней, она неоднократно призывала меня выбросить их. По её версии, это были «кости пропащей лошади». Я не соглашался с ней: ну кто потащит хоронить лошадь в действующий карьер!? Гораздо проще было бы похоронить её где-нибудь на пустыре или на поляне в лесу. Но бабушка стояла на своём, вспоминая при этом какие-то страшные случаи из жизни, связанные с пропащими животными.
Я не сдавался и отстаивал свою точку зрения. Однако после того как обнаружилось, что кости легко строгаются ножом, в моей голове поселились некоторые сомнения: видимо, прошло ещё не столь много времени с момента гибели данного животного и кости не успели окаменеть. Я даже допустил мысль, что в какой-то мере бабушка права, и позвонки принадлежат какой-нибудь средневековой лошади. Кости же средневековых лошадей в моих глазах большой научной ценности не имели – те же «пропащие лошади», только слегка «залежавшиеся» в земле. Засомневавшись, а затем и разуверившись в научной ценности найденных позвонков, я однажды хладнокровно их выбросил. Конечно, тяжело было расставаться с красивой легендой о древней акуле. Но авторитетное мнение бабушки, понимавшей в лошадиных костях явно больше, чем я, перевесили мои изысканные фантазии.
Между тем, мелкие костные обломки периодически встречались мне в карьерном песке и впредь. В большинстве случаев их вид – жёлто-коричневый цвет, сеть глубоких трещин, сглаженные края сколов – упорно наводили на мысль об их почтительной древности. Во всяком случае, они разительно отличались от тех костей, которые мне порой приходилось находить в тарелке с маминым борщом.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



