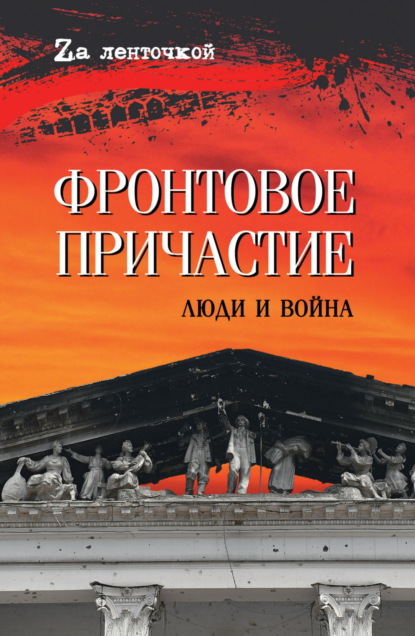
Полная версия:
Фронтовое причастие. Люди и война
Успел. В последние минуты успел. Приехал, документы передал, прицеп в указанный бокс скинул, целостность пломб проверил-расписался, сдал-принял, и уже почти что в пять выехал за ворота склада. И почему-то никак не мог остановиться, как будто в спину его что-то толкало. Так к шести к ограде храма, центрального в Городе, он свой седельный тягач и припарковал. Патрульные и полиция подозрительно косились, но пропуск-«вездеход» волонтёрский на стекле имеется, действующий, значит, наверное, право имеет. И ещё почти что час ждал, пока служба начнётся, присел на лавочке возле входа в храм и ждал. Вот в таком же мареве, между обмороком и явью. И уснуть не получилось, и проснуться не удалось…
* * *Как раз началось Святое причастие. Вынесли Святые Дары, выстроилась очередь, Олег опять за древней бабусечкой с внучками под ручку. Снова вопросы-ответы. Олег, не сообразив, хотел Символ веры вслух прочитать, но остановил батюшка, видно, самый главный, седой, благообразный, а тот самый мелкий и щупленький, которому водила исповедовался, по правую руку от главного стоит, что-то в ухо шепчет. Подали с длинной серебряной ложечки Святое причастие – мелкие куски просфоры, в кагоре вымоченные, а церковная староста – женщина, но помоложе, где-то Олегова возраста, – уже просфоры и святую воду в рюмке подаёт.
Закусил Олег, запил, стал среди других молящихся, и вдруг такое на него снизошло… Нет, слов лучше слышно не стало, да и как чувствовал себя прежде здесь не совсем на своём месте, так и теперь, но вот как будто очень трудное дело сделал, и сделал хорошо. Ну или гонку какую трудную сам с собой выиграл. Как будто победитель, но победитель прежде всего самого себя.
Дождался паузы в молении, бочком-бочком – и вышел из церкви. Смотрит, напротив главного входа в храм асфальт выщерблен, прилёт был! Как близко, а он и не слышал. Точнее, слышал, наверное, но внимания не обратил. Сунул по привычке руку в карман – а сигарет-то по-прежнему нету. Вон, тягач его седельный, там точно есть – пошёл к машине.
А в бардачке как раз на блоке сигарет – коробочка пластиковая прозрачная. В ней два яйца, пузырёк соли и игла – сообразил, что это Димка ещё вчера о нём позаботился, что яйца сырые. Аккуратно иглой проковырял яйцо, посолил, выпил. Ещё одно – сразу в мир как будто краски налили. Вздохнул с облегчением, потянулся к сигаретам – зазвонил телефон.
Димкин номер:
– А-алё, т-ты д-доех-хал?
– Всё нормально, Димуль, я уже из храма после причастия, самое главное – ты не волнуйся! Ты – как? Как здоровье?
– Жж-жить б-буду. Ч-чего зв-воню… К-крестин-нны п… перен-носятся!
– Да я и так уже всё понял! Подождём! Главное – ты выздоравливай! Жену твою, Люсю, к тебе не привезти?
– П-поз-звон-нили ей… Й-едет! С-сама! С доч-чкой и в-внуком!
– Ну вот и слава богу!
– Богу с-слава! – И отбой.
Вздохнул. Потянулся в почти нагревшийся холодильник, достал бутылку воды, открыл, чуть хлебнул, потом приложился и махом полбутылки. Оторвался, вытер пот, достал из блока пачку, распаковал, сигарету в зубы – и остановился. Мысль резанула, мол, если причастился, что, можно дальше грешить? Вспомнил заповеди, перевёл в список грехов, мол, с которого начнём?
Посмотрел на телефон в руке. И решительно затолкал сигарету в пачку, захлопнул пассажирскую дверцу, пошёл к водительской. Всё не так. Не во всём покаялся, не во всех грехах прощён. Теперь всё по-другому. Даже если не без греха. Сначала поедем. К жене. Мириться. Ведь не у всех Дар воевать и побеждать. Кому-то Он дал и Дар хранить дом. Хотя бы чтоб было куда воякам возвращаться. Даже прошлым. Бывшим. Не только с дырочкой в правом боку. А, даст Бог, ещё и с Победой…
Валерий Поволяев
Позывной «Север»
Раз позывной «Север» – значит, дело будем иметь с северным человеком. Так? Но Яско родился не на севере, а в Воронежской губернии. После окончания мореходки – училища, давшего ему среднее специальное образование и профессию, он очутился в Заполярье. Там, как всякий советский гражданин мужского, извините, роду, выполняя свой долг, одел военную форму. Через некоторое время получил звание мичмана и соответственно – мичманскую должность.
С подчиненными был строг, но при этом, если он давал кому-то наряд вне очереди, никто не обижался: мичман Яско был справедлив до дотошности, если можно так выразиться, и такую штуку, как правда-матка чтил примерно также, как устав воинской службы.
На Севере он и плавал, и на берегу работал, и в горы его забрасывали, и в тундру, и в снежное безмолвие – в крутые здешние пустыни, в которых даже полярные волки не водятся – где требовалась его голова и руки, там Яско и можно было найти. При этом просматривалась одна характерная вещь – почти всегда это была передовая линия, впереди находились лишь неприятельские окопы, заметим на всякий случай, – исключений не существовало. И к этому мичман Яско привык.
Жизнь его сложилась так, что после Заполярья и северных морей, способных укачать кого угодно, он служил на суше, заякорился на ней – это было на его родине, в Воронежской области, потом покорпел на гражданке – было и такое, и это ему очень не понравилось… Тогда он, перелистнув несколько страниц в своей биографии, вновь попросился на воинскую службу.
В результате оказался на Камчатке, в морской пехоте, в отдельном инженерно-саперном батальоне. Там Яско пришлось пройти все огни и воды и пролезть через медные трубы, которых оказалось невиданное количество, хлебнул он всякой маеты по горло; и награды там имел, и выговоры, и с несправедливостью столкнулся, и слава богу – со справедливостью. Очень непросто складывалась его жизнь.
На Камчатке он практически и выработал свой воинский ресурс. У военного народа ведь много разных ограничений, а особенно много – связанных с возрастом. Если, допустим, полковнику, очень толковому служаке, положено в пятьдесят пять лет уйти в отставку, то на пятьдесят шестой возрастной год в армии его может оставить только, как я полагаю, министр обороны… Ну еще два-три человека в министерстве и не более того.
Подошел «дембельский» срок и у командира взвода морской пехоты, прапорщика, обладавшего мощными инженерными знаниями… Делать было нечего, раз приказали идти на заслуженный отдых – значит, надо идти, Хотя он ощущал по себе, по своему состоянию, что еще лет пятнадцать мог бы носить погоны и с большой пользой служить Родине. Слово «Родина» в данном разе надо писать только с большой буквы, – не как это делают потерявшие всякую ориентацию, в том числе и половую, братья-украинцы.
Это они – они, а не москали – ввели в свой обиход, новое обществоведение, новую грамматику, новую историю, когда слово «сало» пишется с большой буквы, а «Москва» – с маленькой, это из их затейливых игр… А уж фраза, смахивающая на звонкую поговорку из трех слов, «Москоляку на гиляку», придумана и пущена гулять по белому свету западенцами, нынешними бандеровцами, соскучившимися по дедам и прадедам своим из Галиции и карпатских лесов, прославившихся в свое время умением сдирать кожу с живых людей чулком и делать из нее баретки.
Вообще-то Украина сделалась чужой с того проклятого дня, когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали бумагу о развале огромной страны – не побоялись ни народов своих, ни предков, ни потомков, ни суда истории, ни суда обычного, уголовного, – не думали ни о людях, ни о будущем земли своей, вообще ни о чем другом, кроме куска власти, который считали нужным захапать… Из-за этого и замахнулись без всякого сожаления на страну, в которой жили, разломали ее на ломти… Развели по обе стороны дороги близких родственников, родных братьев и сестер сделали чужими и даже не поморщились. Какую непотребную душу надо было иметь, чтобы все это сотворить.
Сотворили, не поленились, хотя пьяными особо, как слышал Яско, не были.
С тех беловежских Вискулей и начались гонения на русских. Только вот Донбасс с бандеровскими посягательствами да с гонениями не согласился – шахтеры, люди серьезные, взялись за автоматы. И тут современные киевские жовто-блакитные атаманы взвихрили свои хвосты до самого неба.
Дело дошло до того, что украинская власть даже запретила разговаривать на Крещатике по-русски – только на мове, либо на каком-нибудь другом языке, на английском или тарабарском, на малопонятных наречиях Крокодиловых островов либо мыса Сутулых обезьян, но не на русском… Иначе на первый раз штраф, на второй – кутузка с временной отсидкой, на третий – тюрьма с бандеровскими надзирателями, из которой вырваться уже вряд ли удастся… Забьют сапогами.
Это вызвало у Яско не то чтобы недоумение, а состояние некого холодного, очень горького ожога. Ведь для русского человека русский язык – кровь и плоть на все времена и во все времена кровью и плотью останется, это дыхание души, биение собственного сердца, если одного или другого вдруг не станет, то и человека не станет, вот ведь как. И Родины не будет.
Почему русский человек должен говорить на Крещатике, на киевских улицах по-тарабарски или трещать, будто насекомое, мовой мыса Сутулых обезьян? А когда русских начали убивать только за то, что они – русские, Яско достал из чемодана походную армейскую форму и поехал на донецкую землю – защищать Донбасс и Россию. И вообще понять: за что убивают русских?
За то, что они всегда относились к украинцам с братской нежностью, делили поровну победы и поражения, сладкое и горькое, белое и черное, ничего худого не таили, не прятали в скрадки что-нибудь лакомое и вкусное, чтобы потом съесть все в одиночку либо вообще воспользоваться правом «старшего брата» и подтянуть к себе не только тарелку, но и всю кухню с кулинарией, борщами, мясными блюдами и «десертной частью»… Не было этого, никогда не было.
Так какая же черная кошка пробежала между братьями, кто недоглядел?
Когда-то мичман Яско был человеком неверующим и по настоянию родного замполита внушал то же самое своим подчиненным; если кто-то поминал Бога, взгляд у мичмана делался железным, в него наползал холод.
Как-то поздней осенью, а если точнее – наступившей полярной зимой, столько в ней было холода, льда, ветра, страхов и опасностей, они вышли в море… Совсем не верилось, что море это подогревается теплым иноземным течением, не дающим льдам здешним слепить плотную кольчугу и накрыть ею здешние соленые просторы.
Погода была отвратительная, более, чем просто штормовая, эсминец мотало так, что из палубы вылетали заклепки, пулями уносились в мутную ночную высь. Яско проверял посты – не смыло ли кого? И в самом тряском месте обнаружил доходягу-матроса, совершенно синего, с пупырчатой от холода кожей на лице, и так мичману сделалось жаль его, что хоть плачь – загнется ведь парень в ближайшие часы, совершенно точно загнется…
И мичман, сдвинув шапку с крабом на нос, почесал пальцами затылок и сказал пареньку:
– Знаешь что, мореход ты мой отважный, дуй-ка ты в кубрик, отогрейся там… Не то у тебя сопли в ноздрях скоро в ледяные сосульки обратятся, понял? А это нехорошо. Командир корабля тебя за такие фокусы компота лишит.
Парнишка притиснул ладонь к шапке, просипел в ответ что-то невнятное – слова у него примерзали к зубам – и исчез. Паренька этого надо было беречь, к такому выводу пришел мичман Яско.
А эсминец продолжал идти в ночь, переваливался с боку на бок, резал носом тяжелые, будто из чугуна отлитые волны, пофыркивал маслянисто машиной – он служил людям, нес, как и они, свою вахту.
Прошло минут тридцать, ленты полярного сияния, лениво шевелившегося над головой, неожиданно ожили, обрели яркость и начали набирать цвет. Очень часто сияние бывает блеклым, почти выцветшим, – все зависит от силы мороза, движения высотных ветров и небесных перемещений.
Ночь начала понемногу отступать, света становилось все больше, в черных морских волнах начали танцевать яркие всполохи, они играли беззаботно, перескакивали с гребня одной волны на гребень волны другой. Света по-прежнему становилось больше, внезапно Яско даже присел от неожиданности.
Он поднял голову и увидел… увидел Бога. Да, он увидел Бога, живого, стоявшего в высоте с крестом в руках и смотрящего на него. Яско поспешно опустился на колени. Опустившись, стал молиться.
Он не знал ни одной молитвы – не получилось по жизни, и вообще его поколение, как и несколько поколений предыдущих, воспитывалось в духе атеизма, – Бога, мол, нету, и сам мичман много раз внушал своим подчиненным: его действительно нет, а он есть. Вот он, Всевышний, стоит среди облаков, освещенный лентами северного сияния, будто неоном, разглядеть его можно очень хорошо.
Молитвы одна за другой всплывали в его голове, возникая то ли из сердца, то ли из души, скорее, из всего этого, вместе взятого, помноженного на прожитую жизнь, на веру предков, на жизни тех из его рода, кого уже нет в живых – похоронены в Воронежской области, на влекущий нравственный зов, заложенный в нем, на веру его собственную. Человек без веры жить не может, без веры он превращается в недочеловека, который в этом мире долго не протянет.
В последующие годы Яско увидел Богородицу. Произошло это на Камчатке, в Петропавловске. В ненастную пору он стоял на автобусной остановке, ждал, когда же прибудет расхлябанный рейсовый, который в последнее время стал ходить очень уж редко. Богородица возникла в сером ветреном пространстве, находилась совсем близко, причем Яско отметил одно: он видел Матерь Божию, хорошо видел, а вот люди, толпившиеся рядом с ним под козырьком неказистого строеньица, защищавшего ожидавших от дождя и ветра, Богородицу не видели.
Позже, уже в Подмосковье, в вечернюю, почти ночную пору, ему было видение трех святых старцев. Мудрые, древние, похожие на изображения, которые Яско встретил лет пятнадцать назад на страницах рукописных рисованных книг в одном из питерских музеев… Изображения те притягивали к себе, хотелось смотреть и смотреть на них, понять, что за сила заложена в изображениях… Сила эта была добрая, очень добрая.
Появившиеся в его небольшой, хорошо протопленной комнате старцы были мичману знакомы – ну будто он сам очутился на страницах той самой рукописной книги. Он теперь знал молитвы, каноны и псалмы, по возможности соблюдал посты, причем Великий пост старался соблюдать неукоснительно, несмотря на его строгость и собственные служебные обстоятельства – боевые дежурства, походы и учения, и при первой же возможности обязательно шел в храм. Где бы он ни был, в каком городе или селе ни находился. Это стало у него правилом.
А что касается первого видения, освещенного полярным сиянием, то оно прошло с Яско через всю его жизнь. Как главная его икона, главнее не было. И всякий раз, когда ему делалось тяжело, судьба зажимала в свои железные тиски – так сдавливала, что дышать делалось нечем, он вспоминал бурное северное море с водой, имевшей минусовую температуру, волны с кудрявыми серыми шапками, бьющие корабль в скулы слева и справа, неспокойно перемещающееся полярное свечение с его затейливой игрой и Всевышнего, смотрящего на человека с небесной высоты.
События, происходившие на Украине в четырнадцатом году, вызвали у Яско невольную оторопь. И жирно чадящие автомобильные покрышки на главной улице Киева, и снайперы, засевшие в гостиничных номерах, и сожженные заживо люди в одесском Доме профсоюзов, и сотрудники правоохранительных органов, получающие с крыш пули в спину… И много чего другого, уродливого, дикого, что заставляло шевелиться волосы на голове, происходило там, рождало нервную сыпь. По спине, нехорошо холодя хребет, пробегал мороз.
Неужели такое возможно, неужели забыто прошлое, в котором человек человеку был братом, один кусок хлеба делился ровно пополам, без обмана, не было ни олигархов, ни нищих бомжей, все были одинаковы. Кроме тех, может быть, кто работал в Москве, на Старой площади, в комплексе зданий, управлявших страной.
Из головы ни на минуту не вылезала черная мысль: это почему же славяне бьют славян, кому понадобилось, чтобы были уничтожены целые народы одной веры – славянской… Хотелось бы посмотреть в глаза этому мыслителю в кавычках.
Силы у Яско были, боевой опыт тоже имелся, желание, умение, ловкость – всего этого также хватало в достаточном количестве, как и нежелания мириться с тем, что сейчас творят бандеровцы на Украине. А что они творили там в первые послевоенные годы? Немцам, гестаповцам всем этим, даже не снились те пытки, которым подвергались люди, принявшие на Западной Украине советскую власть, народ, приехавший туда, например, учить детишек, лечить селян, строить электростанции, промышленные предприятия и железнодорожные вокзалы, мастерские и аэродромы, поскольку усиленными темпами начала развиваться гражданская авиация и, по планам на будущее, скоро все областные города обзаведутся своими аэропортами, а за ними потянутся и районные центры.
Бандеровцы воспылали лютой ненавистью ко всем этим планам, к переменам и каленым железом выжигали у народа тягу к ним.
В двадцать первом веке, в четырнадцатом году, повторился год 1946‑й – те же бандеровские бесчинства и народная печаль, дальше все поплыло и поехало по дорожке, уже апробированной. Только националисты двадцать первого века были более лютыми, беспощадными и изобретательными, чем националисты века прошлого…
В четырнадцатом году Анатолий Геннадьевич Яско отбыл в Луганскую Народную Республику.
Группа, в которую он попал, была абсолютно гражданской, «штрюцкой»: из тридцати человек, входивших в нее, только двое знали, чем автомат Калашникова отличается от дивизионной пушки, а граната Ф-2 от стакана с чаем и были немного знакомы с разными военными науками: командир группы с позывным «Солдат» и Яско.
Когда Яско прибыл на место и получил первое задание – закрыть собою кусок обороны, чтобы бандеровцы не зашли в тыл другой группе ополченцев, оборонявшей противоположную сторону села, оборона была круговая, «Солдат» спросил у Яско:
– Какой у тебя будет позывной, назови!
Яско думал недолго, ответ был уже практически готов, осталось его только озвучить:
– «Север»!
Хоть и родился он в полустепной Воронежской области, среди хлебных полей, а сознательную часть своей жизни – всю, почти целиком, насколько помнил себя, – провел на севере. Случалось – в море, случалось – на суше, раз на раз не приходилось, куда командование посылало, туда и отправлялся. Но все эти места – у ледяной океанской кромки, где и медведи окрашены в белый цвет, и волки тундровой породы совсем не похожи на волков Кавказа или средней российской полосы.
Проявил он себя очень скоро, и народ стал относиться к нему с уважением: толковый дядька, с таким не пропадешь. Очень быстро проскочило лето четырнадцатого года, наступила осень. На поля, примыкавшие к линии обороны, без тоски и слез нельзя было смотреть: сожженные, вывернутые наизнанку, с черными глубокими воронками, засыпанные пеплом, начиненные железом, осколками и гниющими останками ракет, замусоренные сожженными танками и бронетранспортерами, бээмпэшками, тягачами и грузовиками военного назначения.
Неподалеку от окопов, в которых находилась группа «Солдата», шелестело жестяными листьями кукурузное поле – убрать урожай не удалось, поэтому «царица полей» была обречена. Как и сам «Солдат»…
В тот день ополченцам досталось особенно сильно – группу «Солдата» вырубили почти целиком. Надо было вызывать подмогу, сил уже не было. «Солдат» переполз из окопа к зарослям кукурузы, на взгорбок и оттуда очень удачно сумел связаться с командованием ополченческой артиллерии. Из окопа это сделать было невозможно…
Яско сам слышал, как командир кричал в рожок рации:
– Боеприпасы у нас кончились – всё, финита! Следующую атаку отбить уже не сможем. Вызываем огонь на себя!
Осколок вонзился ему прямо в глаз, изуродовал голову. Яско проводил командира до самого бронетранспортера, который увез его в полевой госпиталь, оттуда его наверняка отправят в Луганск.
Бандеровцы напирали, сильно напирали. Боеприпасов у них было немереное количество (на Украине вообще осталось много складов еще советской поры), поэтому стрелять, бомбить, жечь, рубить плоть земли, взрывать, крошить, превращать в пыль, издеваться над всем живым они могли целыми сутками. Ополченцы выбывали из строя один за другим, длинный окоп редел на глазах.
Наступил момент, когда ополченцев осталось всего двое – Яско и здоровенный татуированный мужик по имени Василий. Ополченцы называли его Вася-зэк и использовали это имя как позывной. Вполне возможно, что Вася-зэк и сидел когда-то, отбывал наказание, а потом вышел на волю и увидел то, что заставило его немедленно отправиться в окопы – под расправы бандеровцев попали родные, близкие ему люди.
Воевал Вася-зэк умело, с толком, был храбрым, хотя лишний раз старался не рисковать, и правильно делал, иначе бы их окоп был пустым еще месяц назад, а обрадованные националисты густой толпой поперли бы на Луганск, что современной истории нашей совсем не было нужно.
И вот их осталось двое. Всего двое.
– Ну что, покурим напоследок, что ли? – предложил Вася-зек, достал из кармана сплющенную, наполовину уже с высыпавшимся табаком пачку сигарет, достал одну, ту, что была поцелее. Протянул пачку Яско. – Будешь?
– Да я не курю, Вася. В молодости как-то попробовал – не понравилось и я отложил это дело в сторону.
– До лучших времен?
– Может быть, и так.
– Сколько у тебя осталось патронов, Толя?
Яско только что проверил рожок своего автомата: чего там есть? Рожок был практически пустой, можно будет сделать лишь несколько одиночных выстрелов.
– Пять штук, – ответил он.
– А у меня патронов – ёк. Ни одного.
– Значит, отбиться не удастся, – спокойно произнес Яско.
– Да, Толя, не удастся, – Вася-зэк затянулся сигаретой, с блаженным видом выпустил дым через ноздри. Ну будто и не в окопе он находился, будто не наступал последний их час. – Конец нам… Вот скажи, Толя, ты зачем сюда приехал?
Вася-зэк позывных не признавал, предпочитал общаться по именам.
– Зачем я сюда приехал? – Яско покачал головой, смахнул со лба гарь – почувствовал ее, даже не глядя в зеркало. – Защищать русских приехал, вот зачем. Если мы не защитим их здесь, на этом рубеже, то следующей будет моя родная Воронежская область. Бандеровцы постараются прийти туда… Ты это, Вася, разумеешь?
– Еще как разумею, – Вася-зэк затянулся дымом, проглотил его, не почувствовав никакой горечи, либо чего-нибудь неприятного, способного раздражать легкие или желудок, – очень даже разумею…
– А ты зачем прибыл на фронт?
– Я, Толя, такую жизнь прожил, что должен тысячу раз перед людьми извиниться. Грехов у меня много. Воз и к нему еще – тележка… Немаленькая тележка, – Вася-зек пошарил пальцами по поясу, отцепил гранату-лимонку, поглядел на нее задумчиво. Над головой у него просвистела пуля, он на нее не обратил внимания. Яско, впрочем, тоже не обратил внимания – привык. А это – самое худое дело – привычка, так человек на фронте теряет осторожность. – Скажи, Толя, ты сможешь этой гранатой подорвать нас двоих, а? Меня и себя?
– Смогу.
– А я нет, – Вася-зэк огорченно вздохнул, – даже не знаю, почему не смогу, – он сплюнул себе под ноги. – Наверное, кишка у меня тонка… Давай поступим так… Отдай мне свои патроны, все, что осталось, а у меня возьми гранату.
Яско ничего не сказал, только кивнул едва уловимо. Вася-зек достал из кармана нож – обычный ножик, купленный на рынке, с вылетающим по нажиму кнопки лезвием, много раз показанный нам в различных детективных фильмах, – также протянул напарнику.
– Возьми и это. Если бандеры увидят у тебя в руках гранату, то начнут стрелять издали, завалят раньше времени, поэтому ты, брат, держи в руках нож… Нож для них все равно что пластмассовая безделушка, они захотят с тобой поиграться, как кошка с мышью, а уж потом поиздеваться и прикончить… В общем, постараются взять нас в плен. Когда навалятся, можешь смело рвать кольцо из гранаты.
– Толковый план… Согласен, – одобрил Яско предложение напарника. Тот воевал дольше Яско и бандеровцев, надо полагать, знал лучше.
Передышка та оказалась затяжная, вместо пятнадцати минут длилась полчаса – видать, бандеровцы решили перекусить и запить еду самогонкой, которую они научились гнать из чего угодно, даже из пушечной смазки, не говоря уже о вещах попроще. Через тридцать минут бандеровцы поперли плотной толпой. Не таясь, не пригибаясь, поскольку знали – у ополченцев нет патронов. Все, аллес капут! Остались только кулаки, только чего они могут сделать этими кулаками? Шишку с какой-нибудь обгорелой елки сшибить, да еще пролетающую мимо ворону напугать, вот и все.
Кулаки эти они отрежут, у всех ополченцев, которые останутся в живых, отрежут… Исключений не будет.
Наступавшие бандеровцы глоток своих не жалели, ржали так, что в низком блеклом небе подрагивали облака – им было весело. А оставшимся в живых двум ополченцам весело не было, они осознавали, что жить им осталось совсем немного, это, конечно, плохо, но умереть они не боялись. В конце концов, все там будем. И бандеровцы там тоже будут, не сховаются… Только у каждого будет свой ответ перед Богом.

