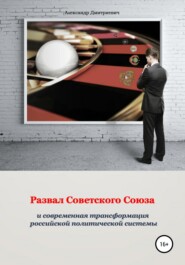 Полная версия
Полная версияРазвал Советского Союза и современная трансформация российской политической системы
Началась Первая чеченская война45, за которой, после небольшого перерыва, последовала и Вторая46.
Буквально сразу выяснилось, что это «очень странная» война. Руководство страны решало какие-то свои непонятные задачи, а их приближённые совершенно открыто и не стесняясь на этой войне наживались.
Да и войска были совершенно не готовы к ведению полномасштабных боевых действий. Ни на равнине, ни в горных районах. Оставались неясными цели всей этой междоусобной мясорубки, когда «чеченским боевикам» также регулярно поставляли вооружения напрямую из РФ и подробно информировали о готовящихся операциях российских войск.
И только после страшных террористических актов, осуществленных «чеченскими боевиками» в Буденновске и Кизляре, было принято решение о переговорах, где были подписаны соглашения о перемирии47.
Российские войска пришлось полностью вывести из Чечни, а решение о статусе республики отложить до 31 декабря 2001 года.
Так «маленькая победоносная война» принесла исключительно большие человеческие, экономические и политические потери. Но при этом стоит отметить, она действительно консолидировала армию и положила конец открытой фронде региональных администраций в самой России.
Только экономика и без того слабая, стала откровенно дышать на ладан.
Тут надо вспомнить, что в период перехода к рыночной экономике, на работающих государственных предприятиях, появился целый пласт «красных директоров». В основном это были выходцы из советской промышленной и управленческой элиты, директора предприятий, занявшие руководящие должности ещё в советскую эпоху. Они обладали необходимыми неформальными связями, навыками управления большими коллективами и профессионально разбирались в производственных технологиях.
«Красные директора», считавшиеся новой российской властью исключительно прокоммунистическими, стремительно обогащались и становились всё более влиятельной силой в стране. Но при этом, как это не кажется парадоксальным, только единицы из них были готовы к эффективной деятельности в условиях рынка. Что очень точно подметил одесский сатирик Михаил Жванецкий: «Воровать надо с прибылей, а не с убытков».
Анатолий Чубайс, бывший тогда председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом был предельно откровенен: «У коммунистических руководителей была огромная власть – политическая, административная, финансовая… нам нужно было от них избавляться, а у нас не было на это времени. Счёт шёл не на месяцы, а на дни».
Именно с его подачи, как бы он потом стыдливо не отнекивался, был дан старт поспешной и совершенно непродуманной ваучерной приватизации48. И хотя, по уверениям организаторов, стремительная выдача приватизационных чеков населению была направлена именно на то, чтобы ограничить возможности «красных директоров», именно это послужило превращению многих из них в «красных капиталистов».
При том, что подавляющее количество остальных предприятий моментально попали под контроль откровенно криминальных или полукриминальных структур. Которых техническое или технологическое развитие приватизированной собственности вообще мало интересовало. И предприятия чуть ли не поголовно «сели на картотеку»49. А нарастающие долги просто заставляли их всё больше переходить на серые и чёрные схемы.
Приватизированные государственные компании стали хронически убыточными.
И тогда шатающаяся власть, с трудом существующая на откровенные финансовые подачки своих западных патронов, закономерно пошла на откровенное хищение федеральной собственности путём преступного сговора в форме мошенничества. Это, кстати, официальная формулировка!
Именно так были проведены «залоговые аукционы»50, при которых наиболее значимые государственные корпорации, в первую очередь нефтяные компании, перешли от «красных директоров» под управление банков.
Эти притворные сделки, а точнее аферы, были осуществлены группой руководителей коммерческих банков. Не по доброте душевной, а по предварительному сговору с заинтересованными чиновниками Правительства РФ.
Что завершилось практически бесплатным отчуждением у государства федеральной собственности. Не живьём, а в форме контрольных пакетов акций лучших предприятий страны. На сумму примерно 40 миллиардов долларов США. Вроде и не очень много, если только не учитывать, что стоимость наиболее дорогих и стратегически значимых шести аукционов была умышленно занижена более чем в 20 раз.
Так в стране наступило шальное время «семибанкирщины»51.
И некоторые проблемы действительно разрешились. Была перехвачена экономическую власть у руководства неправильных субъектов федерации, многих преступных групп и всё ещё самостоятельно действующих советских структур. Многие предприятия стали генерировать доходы и иногда даже исправно платить налоги федеральной администрации.
Но наибольшая проблема так и не была решена. Основная валютная кормушка страны продолжала оставаться откровенно дырявой. А всё из-за транзита нефти и газа через окраинные республики – Украину, Белоруссию и Прибалтику. Там всё также бесконтрольно отбирали нефть и газ из экспортных трубопроводов. И ничего с этим поделать не получалось.
Именно в таких непростых условиях Ельцин заканчивал свой первый президентский срок. Его здоровье сильно пошатнулось, а в ночь с 10 на 11 июля 1995 года он перенёс инфаркт. Всем стало понятно, что он классическая «хромая утка»52 и уже чисто физически не сможет участвовать в президентских выборах 1996 года. Да и его рейтинг53 стал просто неприлично ничтожным.
Но тут 17 декабря 1995 года на выборах в Государственную думу России разгромно победили представители коммунистов (КПРФ). Получив вдвое больше депутатских мандатов, чем правящая партия. И для этого у них были все основания.
Слишком многих крайне прозападных либералов из федеральной администрации избиратели вполне открыто называли предателями, а долгая чеченская война и невероятное обогащение олигархов воспринимались как откровенный беспредел.
Ещё не были забыты революционные лозунги, начинающиеся с марксистского «Даёшь экспроприацию экспроприаторов!». А повторный коммунистический призыв «грабь награбленное» вполне мог снова поднять Россию на дыбы.
В таких условиях отменить президентские выборы со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства просто не представлялось возможным. И Ельцина уговорили выставить свою кандидатуру на второй срок. Его основным оппонентом выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он имел реально высокий рейтинг, грозно требовал изменение конституционного строя и пересмотра всей экономической политики. Резко критиковал текущий курс правительства. Всё делал правильно, особо напирая на нужды трудового народа.
Единственной его стратегической ошибкой было выступление с предвыборной программой на ежегодном мировом экономическом форуме, который проходил в Давосе (Швейцария) со 2 по 5 февраля 1996 года. Специально для присутствующих там 70 российских бизнесменов, часть из которых были простые олигархи, а часть из «семибанкирщы». Вот их как-то не слишком сильно убедили его доводы, что приход коммунистов к власти есть ничто иное, как укрепление демократии, чётко регулируемый рынок и, как следствие, улучшение инвестиционного климата. Но они эту речь оценили очень даже правильно и моментально договорились совместно поддержать действующего президента. Даже заключили некий «Давосский пакт».
Тем временем в самой стране обстановка ещё больше накалилась, когда в марте 1996 года раскрасневшаяся Госдума приняла постановления о признании недействительным «Беловежских соглашений» в части прекращения существования СССР. И это было всеми воспринято как первая ласточка надвигающегося коммунистического реванша. Началась моментальная поляризация общества на сторонников и противников советского строя.
Избирательный штаб Ельцина, получив от откровенно напуганных олигархов практически безразмерный бюджет, развернул активную агитационно-рекламную кампанию под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Во всю мощь задействован административный ресурс. Именно в рамках этой компании был даже принят ряд популистских законодательных актов и решений (которые потом пришлось срочно отменять).
В команду Ельцина олигархи направили руководителей крупнейших телеканалов страны, а их печатные издания вовсю старательно поддерживали Ельцина как единственного и незаменимого «защитника свободы слова». И, в подтверждении своей независимости, развязали откровенно оголтелую информационную войну против Зюганова.
Так что результат был заранее предрешён.
Но официально кандидат от КПРФ проиграл только во втором туре54.
Хотя, если совсем уж честно, после всех этих залоговых аукционов, многие коммунисты, а также поддерживающие их патриоты и националисты уже тогда подсознательно понимали, что в случае победы у них не будет никаких экономических предпосылок удержать власть. И потому основную часть верхушки коммунистов, после правильного предложения55, купили задорого. Так, на всякий случай.
Но эти президентские выборы наглядно показали, что надо срочно если не менять, то уж точно подкорректировать политический вектор власти, слишком явно направленный в сторону Запада. И начинать коренным образом пересматривать взаимоотношения с «американскими» и «европейскими» патронами. В политике любые обязательства мало что стоят, а тут своя рубашка ближе к телу.
Политика независимой России. І этап
Уже к 1997 году федеральная администрация получила монополию на центральную власть. Даже несмотря на Госдуму, всё ещё контролируемую коммунистами. Активными, но уже частично прирученными. Все более-менее значимые политические и экономические группы были так или иначе интегрированы во «властную вертикаль». Даже федеральный бюджет кое-как, но всё же сверстали.
Взаимоотношения с ближним зарубежьем, особенно в вопросах экономического сотрудничества и энергетического транзита, были компромиссно урегулированы.
Пусть временно, но разрешился болезненный «крымский вопрос» – судьба бывшего Черноморского флота ВМФ СССР, который на паритетных началах был разделён с Украиной ещё в 1994 году. Но отношения военнослужащих украинского и российского флотов доходили порой до физического противостояния, а ситуация на полуострове несколько раз была на грани вооружённого конфликта между Россией и Украиной.
Но, именно благодаря дружеским западным увещеваниям, Украина смирилась за нефтегазовую долю малую. А Россия получила разрешение «на правах аренды» в течение 20 лет содержать там ограниченный военный контингент, но без ядерного оружия. «Непотопляемый авианосец», уверенно контролирующий всю акваторию Чёрного моря, хоть на время, но частично остался русским. И даже бесконтрольная утечка бесхозного оружия в горячие точки мира оттуда существенно снизилась.
Воодушевлённая этими успехами, ельцинская администрация стала старательно налаживать контроль над силовиками и субъектами федерации. Создавая всё более глубокие патронажные связи по линии центр-субъекты.
Именно в рамках этих процессов в марте 1998 года Владимир Путин был введён в администрацию президента, где стал отвечать за отношения с регионами. И, благодаря своей чекистской въедливости, очень быстро стал одной из самых влиятельных фигур в Кремле. Что уже 25 июля 1998 года был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Где сразу провёл реорганизацию и впервые за долгие годы наладил бесперебойное финансирование. Подкормленные люди «с холодной головой»56 вновь почувствовали себя реальной силой.
Но тут совершенно неожиданно для российского правительства разразился азиатский финансовый кризис, почти вдвое обрушивший цены на нефть. Со стабильных 18 долларов США за баррель до обидных 10. Тем самым нанеся подлый удар по основной статье российского экспорта. А заодно запустил «эффект домино».
А ведь к этому привела вся предыдущая порочная правительственная практика покрытия дефицита госбюджета за счёт бездумного наращивания государственного долга. Хотя, казалось бы, даже по всем международным меркам, ещё в 1997 году соотношение внутреннего долга России к ВВП было весьма скромным. И составляло какой-то жалкий 21,0%, тогда как у Германии было 57%, США – 66%, Японии – 107%.
Но Государственная Дума, в которой продолжала действовать чрезвычайно активная фракция КПРФ, постоянно (и зачастую вполне справедливо) требовала всё большего увеличения социальных расходов. В итоге там принимались несбалансированные бюджеты, где расходы никак не обеспечивались доходами. А потому каждый раз нужны были дополнительные внешние заимствования.
Только вот покрытие бюджетного дефицита за счёт заимствований на финансовых рынках было, в свою очередь, чрезвычайно губительно для российской экономики. Высокая прибыльность раскрученных операций с государственными краткосрочными обязательствами (ГКО) просто и эффективно перекачивали финансовые ресурсы из реального сектора экономики в финансовый. Даже до 70% западных кредитов вместо реального сектора экономики уходили на спекуляции с облигациями ГКО. Да и кто в трезвом уме и твёрдой памяти откажется на халяву срубить лёгких денег?
Объём спроса на постоянно растущие предложения российских государственных ценных бумаг очень быстро стал поддерживаться за счёт привлечения спекулятивного иностранного капитала. Зачастую всё того же российского, просто прокрученного через моментально расплодившиеся офшорные компании57.
Но такое было возможно только при условии сохранения высоких процентных ставок и жёстко контролируемой инфляции. С удерживаемым «валютным коридором» стабильного курса рубля к доллару США. Причём в очень узких рамках. Только вот при неэффективной экономике это может искусственно поддерживаться только и исключительно путём постоянных валютных интервенций (вливаний).
Привлечение иностранного капитала сразу же потребовало снятия основных ограничений на вывоз капитала. А такая либерализация международных операций с валютой, имеющей фиксированный курс, откровенно снижала защиту экономики страны.
Круг замкнулся. Чтобы содержать постоянно разбухающий бюджет нужно было всё больше увеличивать поступление средств. При этом Государственная Дума категорически отказывалась его секвестрировать, то есть сокращать расходы даже по отдельным статьям, не говоря уже обо всём государственном бюджете в целом.
Но с трудом собираемые налоги, акцизы и пошлины покрывали лишь незначительную часть бюджета. Нефтегазовые доходы давали не меньше половины. Остальное покрывала финансовая пирамида58 государственных краткосрочных облигаций (ГКО).
К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО уже не хватает на выплаты по старым. Тогда стали активно привлекать вообще любых иностранцев. И вскоре треть всех ценных бумаг оказалась у них в руках. И это не удивительно. Облигации продавались по цене 50-60% от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцам полную стоимость.
С 1 января 1998 года были вообще сняты все ограничения на вывоз капитала. Но почти сразу среди «инвесторов» загуляла инсайдерская информация, что правительство обсуждает девальвацию рубля. В итоге вместо ожидаемого притока начался всё увеличивающийся отток валюты из страны. Рубль без привычных валютных интервенций стало откровенно штормить.
23 марта 1998 года Борис Ельцин своим указом отправил в отставку правительство Виктора Черномырдина и возложил исполнение обязанностей председателя на молодого Сергея Кириенко59. Шаг весьма любопытный.
Новому «кризисному менеджеру» вполне хватило всего нескольких дней для прояснения текущего состояния дел. А они не просто удручали. Средств федерального бюджета не хватало даже на исполнение текущих обязательств перед бюджетниками! А ресурсов для выплаты внешних долгов не оказалось вовсе.
При этом неизбежные потери федерального бюджета от последствий азиатского финансового кризиса, как показывали предварительные расчёты, в ближайшее время составят не менее 30 млрд долларов.
В мае Кириенко представил в Госдуме два антикризисных плана. Они основывались на резком сокращении государственных расходов и к свободному формированию курса рубля. Вопрос ставился ребром. Либо секвестр бюджета проведут сами депутаты Госдумы, либо правительство сократит расходы по своему усмотрению.
Но такой бесцеремонный подход и такие наглые антикризисные меры Госдума решительно отвергла. А фракция КПРФ в отместку пригрозила приступить к процедуре импичмента президента.
Тогда в срочном порядке правительство упросило Международный валютный фонд о выделении стабилизационного кредита. И 20 июля 1998 года кредит в размере 4,8 млрд долларов действительно поступил на счета Центрального банка и Министерства финансов. И сразу же таинственно исчез60!
А тут ещё западные инвесторы стали ажиотажно избавляться от российских ценных бумаг, а вырученные рубли срочно конвертировать в доллары. Курс рубля еле-еле сдержали. В пятницу 14 августа 1998 года пришлось Борису Ельцину даже выступить по центральному телевидению: «Девальвации не будет. Это я заявляю твёрдо и чётко».
Но уже в выходные правительство Сергея Кириенко приняло единственно возможное, хотя и откровенно смертельное для себя решение об односторонней реструктуризации долга по государственным облигациям. Точнее, о временном отказе от выплаты всех долгов. Как суверенных, так и частных. А российским частным заёмщикам разрешили не платить по долгам иностранным кредиторам в течение 90 дней.
Это могло хоть как-то помочь. По крайней мере временно удержать на плаву коммерческие банки и спасти госбюджет от неминуемого разорения, которое вызвали бы ожидаемые выплаты по ГКО. Но, как ни крути, это был технический дефолт.
И следом наступил «чёрный понедельник»61.
В России публично объявили о дефолте и переходу к плавающему курсу рубля. Это вызвало невероятную панику. Люди ринулись забирать свои вклады из банков и скупать твёрдую валюту. И банки, и обменные пункты моментально остались без наличных средств.
На предприятиях и в организациях стало нечем платить зарплату, что вызвало волну массовых увольнений.
В стране наступил настоящий хаос.
21 августа 1998 года, все фракции Госдумы очнулись и солидарно приняли постановление о недоверии правительству. И потребовали отставки премьера Кириенко. Утром в воскресенье 23 августа Ельцин вызвал к себе Кириенко и лично объявил ему об отставке.
Вот так в жизни бывает. Всё, что фактически замутил Черномырдин совершенно несправедливо отлилось Кириенко. Да, не всякое лыко в строку, но сам Виктор Степанович однажды просто пророчески заявил: «Черномырдину пришить ничего невозможно». Respect!
Дефолт окончательно добил рейтинг Ельцина. И нависла реальная угроза импичмента. До этого уже дважды были организованы безуспешные попытки. Сначала в марте 1993 Съезд народных депутатов Российской Федерации пытался отрешить Ельцина от должности. Затем в сентябре того же 1993 года уже Верховный Совет требовал прекращение полномочий Ельцина. Но это закончилось расстрелом Белого дома. Тогда Ельцину и власть удалось сохранить, и оппозицию хорошенько припугнуть.
В Госдуме, по настоянию фракции КПРФ, заработала специальная комиссия. К февралю в Совет Госдумы поступили заключения по всем пяти пунктам обвинения главы государства. Они фактически повторяли прошлые: развал СССР, разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993, развязывание войны в Чечне, ослабление обороноспособности и безопасности страны, геноцид русского народа и других народов России.
21 апреля 1999 года, дабы дополнительно укрепить свои позиции, Госдума одобрила поправки к регламенту, конкретизирующие саму процедуру. Готовились серьёзно.
Но всё закончилось благополучно для Ельцина. Ни по одному из многочисленных пунктов обвинения так и не было набрано 300 голосов депутатов, необходимых для принятия решения Госдумой о прекращения полномочий действующего президента. И это не считая того, что потом бы потребовалось ещё и аналогичное решение Совета Федерации. А там были совсем другие расклады.
События откровенно напугали уже чрезвычайно больного Ельцина. Особых надежд на свою «семью»62, совсем потерявшую берега, он точно не питал. И обоснованно боялся, что после ухода будет немедленно подвергнут различным преследованиям. И не он один. Тем более, что поводов даже искать не надо. Наворотили будь здоров.
Нужен был честный и надёжный преемник, «человек слова». Который и прикроет, и в обиду не даст. Имелось несколько кандидатур, но время пожимало. Оставалось только сделать окончательный выбор.
А тут ещё 7 августа 1999 года произошло вторжение боевиков под командованием Басаева и Хаттаба в Дагестан, где воодушевлённые местные радикальные исламисты моментально заявили о введении у себя шариатского правления. Для России возникла реальная угроза утраты вслед за Чечнёй ещё одного региона на Северном Кавказе
9 августа президент Ельцин назначил Владимира Путина первым заместителем и исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. И в своём телеобращении открыто назвал его своим преемником.
Путин официально стал вторым человеком в стране.
И незамедлительно принялся за дело. Организовал и возглавил операцию против боевиков. Да и воевать начали серьёзно. В результате полуторамесячных боёв боевики были полностью изгнаны за пределы Дагестана.
Но в сентябре 1999 года ваххабитами была проведена серия террористических актов «возмездия». Были взорваны жилые дома в Буйнакске, Москве и Волгодонске, жертвами которых стали более 300 человек.
Это был вызов. И 1 октября танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. А после авиаудара по Грозному Владимир Путин произнёс получившую широкую известность фразу: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов».
Страна впервые за долгое время действительно почувствовала «сильную руку».
Тем более, что Владимир Путин устраивал большинство. Он был варяг, не входящий в замаранную президентскую «семью», и всегда держался вне схваток в кремлёвских и околокремлёвских подковёрных дрязгах. При этом сам из силового ведомства, но при этом отметился ближайшим помощником либерального мэра Санкт-Петербурга. Все ожидали, что и дальше он будет и вашим, и нашим.
Да и только проявившись в Москве, именно он сумел очень быстро наладить деловые и конструктивные отношения с региональными администрациями.
Потому совсем не удивительно, что Путин, пришедший в политику без году неделя, победил уже в первом туре и 7 мая 2000 года официально вступил в должность президента России.
Он быстро сформировал вокруг себя молодых и голодных до работы «питерских». Именно они выработали новую программу экономических и банковских реформ, изменив подход к формированию бюджета и налоговой политике. Слишком уж наглядно показало государство свою слабость при финансовом кризисе 1998 года. После него только непроцентные правительственные обязательства составляли к 2000 году более 55% ВВП, а выплаты по долгам отнимали до 50% бюджетных доходов. И стало понятно, что хватит жить за чужой счёт.
А тут ещё нефть стала расти как на дрожжах. А после того, как валютный курс был опущен до адекватного уровня, в стране начался восстановительный рост экономики.
Удивительно, но столь короткий период первого президентского срока Путина вообще стал для России наиболее успешным за последнюю сотню лет. С 2000 по 2004 ВВП вырос на 38%, почти в 10 раз увеличились золотовалютные резервы, превысив 140 млрд долларов США. Уровень инфляции снизился более чем в три раза. Российская экономика стала расти высокими темпами и теперь уже никто не ставил под сомнение положение федеральной администрации как верховной власти в России.
При этом Россия стала значительно менее зависима от настойчиво навязываемой иностранной политической и экономической поддержки.

