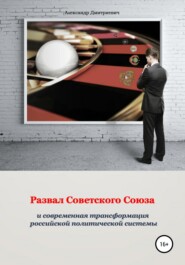 Полная версия
Полная версияРазвал Советского Союза и современная трансформация российской политической системы
Затем пошла волна «национализации» большого количества предприятий центрального подчинения. Только вот качество управления этими активами моментально падало, что всё больше усугубляло общий экономический кризис. И уже через несколько лет Чернобыльская авария (1986) дала этому страшное, но весьма наглядное подтверждение.
А после смерти Константина Черненко (1985), проболевшим на своём посту чуть больше года, на его место келейно, в нарушение всех принятых процедур, был выбран Михаил Горбачев.
Именно ему принадлежит сомнительная честь запуска своего варианта андроповской программы. При Андропове или Романове такое реформирование возможно бы действительно хоть как-то, но провели. Даже «ломая через колено» и наполняя тюрьмы по горлышко. Но тут уж вышло как вышло.
Михаил Горбачев изначально не был силён в управлении центральным партийным аппаратом, не говоря уже о руководстве партиями окраинных республик. И любые возникающие проблемы стали сразу выходить из-под его контроля. Воистину, «мантры петь – не мешки ворочать».
Переданные республикам предприятия, лишившись прежних «плановых» преференций, еле сводили концы с концами или вообще простаивали, а новые горбачёвские экономические реформы откровенно саботировались.
Народ, подстрекаемый местными элитами, всё больше злобился.
А тут и повод появился.
В декабре 1986 года Михаил Горбачев, неожиданно для многих, назначил первым секретарём ЦК КП Казахстана новоявленного «реформатора» Геннадия Колбина, бывшего первого секретаря Ульяновского обкома партии. До этого в Казахстане никогда не работавшего и обстановкой совершенно не владеющего. При том, что на эту должность реально претендовал и имел весьма мощную поддержку Нурсултан Назарбаев, действующий председатель Совета Министров Казахской ССР.
Казахская молодежь моментально устроила беспорядки с откровенно националистическим подтекстом. Несмотря на то, что в самой республике доля казахов не превышала 40%.
В столичной Алма-Ате началось «декабрьское восстание» (Желтоксан). Хотя выступления были жестоко подавлены, а Колбин продержался во главе Казахстана вплоть до 1989 года, слабость антикризисного управления Горбачева и те уступки, на которые ему пришлось пойти казахским элитам, побудили другие окраинные республики постоянно «показывать зубы» и бросать вызовы центральному правительству. Держать, так сказать, в тонусе.
Но Горбачев больше никогда не рисковал кардинально вмешиваться ни в республиканские экономические процессы, ни открыто реагировать на глубоко укоренившуюся там коррупцию.
Зато после этого провала он решил усилить политическую часть перестройки, чтобы реформирование прошло «само собой», с помощью всё той же невидимой руки рынка и дружеской западной помощи.
Но судорожные попытки введения политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в направлении рыночной модели хозяйствования, очень быстро поставили СССР на грань катастрофы. Прав был ныне покойный Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Декларируемая «свобода слова» сначала, помимо разрешённой клубнички, свелась к откровенно параноидальным разоблачениям «ужасов сталинизма», ещё больше подрывая престиж центрального правительства. Хотя изначальной целью этих разоблачений была очевидная попытка не допустить возврата к «сталинской ответственности» партийных лидеров за экономические результаты.
А затем всё постепенно вылилось в более простое и уже привычное разжигание межнациональной розни с сопутствующим обострением межэтнических отношений.
Частное предпринимательство, ранее запрещенное Хрущевым, теперь очень сильно тормозилось не только непродуманностью и несогласованностью, но и «эффектом бабочки»23 – уголовными преследованиями за самые незначительные валютные операции. И всё разрешённое предпринимательство практически свелось к бартеру и внутренней спекуляции. Когда закупались товары у государственных компаний по низким «государственным» ценам, а перепродавались по высоким «рыночным».
Зато произошло потепление отношений с коллективным Западом, в результате раздувания так называемого «нового мышления». Там с неподдельным энтузиазмом были готовы поддерживать вообще любые перестроечные начинания, способные если не ослабить главного стратегического противника, то хоть низвести его до уровня Китая. Ведь именно там создавалась самая дешёвая продукция для нужд США и Европы. На крайне выгодных для них условиях. А тут Китаю созревает дешёвый поставщик сырья. И прямо у него под боком.
Но самая страшная беда подстерегала Горбачёва в «сердце страны».
Ещё в декабре 1985 года Политбюро ЦК КПСС рекомендовало на должность первого секретаря Московского городского комитета (МГК) КПСС «свердловского правдоруба» Бориса Ельцина. Весьма любимого народом здоровенного мужика, откровенного хама и запойного алкоголика. Но в тот период личность ещё достаточно яркую и весьма примечательную.
Ельцин одним из первых осознал силу общественного мнения. Уже в своём «таёжном углу» он стал еженедельно проводить прямые эфиры24 на местном телевидении, отвечая на любые, даже самые острые звонки в студию. И, что самое главное, озвученные жителями проблемы тут же моментально разрешал. Даже не кривил душой, искренне и открыто считая всех своих областных чиновников нахлебниками и дармоедами.
Ельцин, получив новую должность и едва освоившись в кресле московского градоначальника, окончательно осознал, что Горбачёв с таким правлением долго не протянет. А раз все удачные революции делаются в столицах, то у него появился реальный шанс стать тем самым единственным «народным вождем».
И он начал борьбу с наиболее значимыми московскими конкурентами. Превратив это в публичные расправы над чиновниками. По старинной народной традиции бей своих, чтобы чужие боялись.
И «полетели головы» 70% первых московских секретарей райкомов КПСС, 40% других работников партийного аппарата, 36% работников райисполкомов и других местных органов столичного управления.
Зато стала стремительно обрастать клиентским жирком его немногочисленная «уральская» группа.
И сразу за этим Ельцин нанёс следующий удар по партийной номенклатуре. Объявил «борьбу с привилегиями». Отказался от служебной машины. Стал ездить на работу в общественном транспорте и даже ходить в обычную поликлинику.
И принялся совершенно открыто критиковать руководство партии.
Но к осени 1987 он излишне поверил в себя и откровенно зарвался, когда на Пленуме ЦК КПСС в достаточно резкой форме раскритиковал стиль работы ряда членов Политбюро (в том числе и своих патронов). А потом совершенно спонтанно заявил о зарождении «культа личности» Михаила Горбачёва.
Это уже был прямой вызов.
Непарламентский, наглый, отрезающий все пути назад. Из серии либо пан, либо пропал. Но проблема была в том, что переворот им тогда вроде как не планировался и, соответственно, ни плацдарм, ни отходные пути не были заранее подготовлены его клиентелой.
Пленум его выходку признал «политически ошибочной» и поставил вопрос о переизбрании. Если коротко, то Ельцину просто указали на дверь.
Борис Николаевич долго каялся, писал в ЦК покаянные письма с признанием всех своих реальных и мнимых ошибок. Даже неуклюже симулировал попытку самоубийства. Но всё было напрасно. С должности он слетел и, казалось, его звезда окончательно закатилась.
Ан не тут-то было. Спасла благодарная народная поддержка. Прошло всего ничего и уже 26 марта 1989 года Ельцин был избран народным депутатом СССР по центральному национально-территориальному округу № 1, где он получил 91,53% голосов москвичей, при явке почти 90%. Став самым популярным в столице. Что было бы совершенно немыслимо в любых других ситуациях.
Просто Советский Союз в то время полной ложкой отхлёбывал плачевные результаты политических реформ Горбачёва. Во всех концах страны вспыхивали ожесточенные столкновения на этнической почве. Тем более, что с 1 января 1988 года республикам было дано право экономической самостоятельности. И они начали увеличивать расходы, чтобы, как им казалось, поможет улучшить жизненный уровень населения. Но производственные мощности страдали от нехватки или полного отсутствия сырьевых ресурсов. Нарастал дефицит не только продукции, но и товаров самой первой необходимости. Деньги переставали иметь хоть какое-то особое значение. Ценностью становились талоны.
Экономика окончательно не рухнула только благодаря импорту, который оплачивался из нефтегазовых доходов. Ну и непрерывному западному кредитованию. А кто девушку танцует…
Но тут даже наши «добрые западные друзья» загнали сами себя не только в стратегический, но и в тактический тупик. Но, чисто по инерции, продолжали оказывать давление на Горбачева, всё настойчивее требуя продолжать Perestroika.
При этом в самой стране всё отчётливее стали понимать, что СССР доживает последние дни. И тогда номенклатура стала искать собственные пути отхода с этого тонущего корабля. Повсеместно обрывались старые патронажные связи. Стали судорожно согласовываться новые ситуативные, в ожидании клятвенно обещанного доступа к «западным благам».
В партийном руководстве появился целый пласт клиентов, готовых по щелчку моментально переобуться в прыжке. Из «американских» в «европейские» и наоборот. А лучше растянуться на все стороны сразу.
Негласно стали договариваться о конечных целях «перестройки». Где и как «европейские» будут всячески поддержаны в процессе захвата ими всей полноты власти в союзных республиках, которые потом можно объявить независимыми государствами. А ставшие «американскими» демократические патроны, за согласие на такой кульбит, «гарантированно» получат весомую материальную компенсацию, которая позволит им заняться серьёзным бизнесом за рубежом.
Страну откровенно готовили к массовой распродаже. Точнее, дерибану25. Пока имелся спрос и было что предложить.
И именно в этом бурном потоке перемен за «тараном» Ельциным быстро образовалась новая клиентела, сплотившая ряд российских провинций в единое целое. За всё хорошее и против всего плохого.
О хорошем только мечталось, а плохое всегда было что сбоку, что по краям. И развернулась разнузданная кампания против всех против всех, а ещё больше против «коммуняк» – зажравшегося центрального партийного аппарата. Лозунг «Хватит кормить …!» стал универсальным. В кого пальцем ни ткни.
И тут такое началось!
Михаил Горбачёв, пытаясь хоть как-то обуздать поднятую им же волну, отважился на совмещение высшего партийного поста с государственным. И кулуарно продавил для себя 15 марта 1990 года на III внеочередном Съезде народных депутатов СССР невиданную ранее должность – Президента Советского Союза!
И сразу же, в попытке задобрить все стороны, 26 апреля 1990 года им был принят закон СССР о разграничении полномочий между центром и субъектами федерации. Где все суверенные республики объявлялись суверенными государствами, а СССР фактически превращался в конфедерацию. Республикам разрешалось становится субъектами международного права и открывать свои дипломатические миссии.
Советский Союз затрещал по швам.
29 мая 1990 года Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР, победив невнятного «кандидата Кремля». И уже 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР»26, где прописал безусловное верховенство российского законодательства по отношению к союзному.
Политический вес Ельцина моментально рванул вверх и теперь он мог вполне на равных конкурировать с Горбачёвым. И потому, всего через месяц, 12 июля 1990 года пошёл ва-банк и на XXVIII съезде КПСС выступил с жёсткой критикой партии и, в частности, Горбачёва. Но даже тут Ельцин не удержался от театрального эффекта, раз уж по всем каналам ведётся прямая телевизионная трансляция. Он мужественно объявил о своём выходе из рядов КПСС. Хотя, надо признать, шаг даже тогда не для слабонервных.
Будь Горбачёв более решительным, ситуацию может и можно было хоть как-то, но разрулить. Остановить вялотекущее начало «парада суверенитетов»27, благо в этом вопросе он в тот момент имел полную поддержку США и Европы. Которые были готовы его поддержать не только политически, но и финансово. Все слишком боялись непредсказуемых последствий от распада СССР.
Но сразу за РСФСР, 16 июля 1990 года Верховным Советом Украинской ССР была принята собственная версия «Декларации о государственном суверенитете Украины». И этим шагом Украина фактически обрушила центральное политическое управление Советским Союзом.
У шахматистов это называется цугцванг28.
Удар был страшным. Горбачёв попытался хоть как-то исправить положение. Подготовил и провёл в марте «беспроигрышный» Всесоюзный референдум о сохранении СССР. По его итогам им была создана солидная рабочая группа в рамках «ново-огарёвского процесса»29 для разработки договора «О Союзе Суверенных Республик». Где «вишенкой на торте» было клятвенное обещание о предоставлении неограниченного самоуправления любым субъектам федерации. Что, кстати, вполне могло раздробить РСФСР на десятки новых республик.
Под это своё предварительное согласие даже дали 9 из 15 союзных республик
Но воистину, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.
Вскоре, 12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом РСФСР и тут же, вроде как уже в новой должности, отказался парафировать30 ранее согласованный проект Договора о ССГ31. Как не отвечающий нуждам и чаяниям русского народа.
Потом процессу подписания уже более компромиссного договора помешал «августовский путч», бездарно осуществлённый Государственным комитетом по чрезвычайному положению32. Одинокие «кремлёвские сидельцы», так и не заимевшие ни «американских», ни «европейских» патронов, провозгласили себя «истинными патриотами» и попытались нахрапом вернуть прежнее управление страной по «ленинским заветам».
Но всё это вылилось исключительно в показушный ввод войск в некоторых городах страны и таинственное трёхдневное отстранение от власти и комфортабельное пленение новоявленного президента СССР Михаила Горбачева на его госдаче «Заря», что в крымском поселке Форос. Хотя потом, даже столь широко разрекламированное освобождение «узника Фороса», новых сторонников ему никак не прибавило. Стали даже сторониться «западные партнёры», всё больше переключаясь на Ельцина.
Центральная власть окончательно и бесповоротно утратила свои позиции в республиках. Теперь там всё увереннее стали рулить местные националисты.
А 8 декабря 1991 года главами трёх бывших союзных республик были подписаны собственные «Беловежские соглашения»33, где было заявлено о прекращении существования СССР и о создании СНГ как межгосударственной организации.
Чуть позже, 21 декабря в Алма-Ате к соглашению присоединились главы ещё восьми союзных республик.
25 декабря 1991 года состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, утвердившего Закон РСФСР № 2094‑I "Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". Было установлено новое название – Российская Федерация (Россия). В тот же день этот закон подписал президент России Борис Ельцин.
«Союз нерушимый» разрушился34.
Наступала эра «капитализма для своих»35.
Консолидация России
На момент развала Советского Союза в РСФСР проживала и работала добрая половина населения страны. Они уже генерировали до 80% всего ВВП и более 90% валютной выручки от нефтегазовых доходов.
Именно исходя из этого все предыдущие годы пророссийские элиты так активно стремились заполучить сначала политический, а потом и экономический суверенитет. Невероятно, но только РСФСР до последнего времени оставалась единственной республикой Советского Союза вообще не имевшей своей республиканской компартии36. И это в государстве, где политика постоянно доминировала над экономикой!
Зато теперь пошло всё более нарастающее российское давление на экономически зависимые от них окраинные республики. Стал жизненно необходим новый межреспубликанский договор, который в первую очередь учитывал бы интересы именно Российской Федерации, а не дотационных окраинных регионов.
Тут наиболее трудным оказалось согласовать саму форму такого будущего объединения.
Был простой и для всех наименее затратный федеративный путь. Но «с человеческим лицом», типа равноправный. При таком варианте все республики добровольно соглашались на единую денежную единицу и общие вооружённые силы с единым командованием. Ну, и другую необходимую гомогенность37 также требовалось соблюсти. Европейский Союз тому наглядный пример, хоть пока и без единой армии.
Но, едва дорвавшись до власти, никто из окраинных «ни пяди» не хотел отдавать от своего ожидаемого суверенитета. Они были готовы оставаться в Союзе, пока Россия платит за всё и гарантирует свое невмешательство в их дела. И при этом все должны иметь исключительно свои «кровные» денежные единицы, свои «карманные» вооружённые силы, да и законы, какие-никакие, но только свои. Даже на единую валюту большинство было готово согласится, но только при условии и только до тех пор, пока им дозволялось производить её бесконтрольную эмиссию38. Так что, такая вот особая конфедерация39!
Так на месте СССР появилось Содружество Независимых Государств. Но без единой валюты, армии и наднациональных полномочий. Короче, нищий, но чрезвычайно голосистый базар. Объединение по сбыту наследия «совка», сиречь советской оккупации. Не со зла, да жизнь заставляла. Такая вот великая сермяжная правда.
А что ещё им оставалось делать?
После политического кризиса 1987-91 годов экономика Советского Союза была в полном и откровенном ступоре. И одной из важнейших причин этого стало быстрое сворачивание межгосударственного (в рамках СЭВ40) и межреспубликанского (внутри СССР) разделения труда, насильно насаженного (и зачастую откровенно экономически невыгодного) после возникновения мировой социалистической системы хозяйства. Такое разделения труда, по задумке создателей, должно было планомерно, в соответствии с жизненными интересами (!!!) всех социалистических стран содействовать выравниванию их уровней экономического развития. А потом всем вместе гордо вступить в «светлое коммунистическое завтра».
Из-за этого в Советском Союзе возник чудовищный перекос в структуре промышленности. Три четверти приходилось на производство средств производства (металлургию, химическую и прочую тяжелую промышленность, машиностроение, станкостроение и военную промышленность) и только четверть на производство предметов потребления (лёгкую и пищевую промышленность).
Но вот на мировом рынке из огромного перечня «плановой» и всё ещё производимой номенклатуры товаров некоторым спросом пользовались только сырьё первого передела, армейское имущество, некоторая продукция сельского хозяйства и услуги. Первое можно было быстро продать по бросовой цене и закупить себе хоть самое необходимое, но тоже дешёвое. Иначе никак не выжить.
Да и само существование окраинных республик только усугубляло проблемы России. Особо выделялись её западные «сёстры» – Украина и Белоруссия. Они бесплатно отбирали нефть и газ из экспортных трубопроводов. Чем чувствительно снижали способности федеральной администрации «латать дыры» импортом. Да ещё бесконтрольно печатали ничем не покрытые советские рубли, усугубляя всеобщую инфляцию. Явно исходя только из того, что надо пользоваться пока ещё всё народное, то бишь ничейное.
С такими друзьями и врагов не надо.
Чтобы навести хоть какой-то порядок, новая российская федеральная администрация стала лихорадочно добиваться своей политической легитимности. В течение 1992 года её, наконец, признали законной «наследницей» Советского Союза. При этом спихнув на неё все долги. Включая все союзные, республиканские и даже царские, раз Россия сама согласилась на такое благородное дело.
Оставалось дело за малым. Надо было избавиться от советской модели власти. Но было не очень понятно, как это воспримут обычные люди. Всё-таки вычеркнуть три четверти века из народного сознания и забыть про обещанный «коммунистический рай» не так-то просто.
Было резко усилено информационное давление по преобразованию мышления и управлению сознанием масс. И такое промывание мозгов дало свои плоды.
Ползучей капиталистической революции с её иной социально-экономической политикой был противопоставлен только жалкий оппозиционный «октябрьский путч»41. А ведь ещё совсем недавно многие с пеной у рта утверждали: «Коммуниста дёшево не купишь!»
Зато все западные телекомпании из первых рядов провели круглосуточные репортажи сначала о противостоянии, а затем о красочном расстреле из танков и штурме Белого дома42. Радовались, что на переходный период в России установится откровенно авторитарный режим президента Ельцина. И наперебой поминали пророческое высказывание президента США Рузвельта о дружественном политике43.
Россию временно признали за свою44.
К 1993 году новая федеральная администрация окончательно поглотила советские структуры. Но при этом к федералам «по наследству» перешло большое количество оставшихся в Москве республиканских представителей из бывших советских институтов власти. В основном, украинцев и белорусов. Что потом десятилетиями негативно влияло на политику России в международных отношениях со своими новоприобретёнными независимыми соседями.
На ведущие должности, давая невероятно заманчивые обещания, быстро выдвинулись прозападные политики. Свой новый внешнеполитический курс Россия ещё не выработала и потому бездумно следовала за США и другими западными странами. С одной стороны, это обеспечивало ей сильную внешнеполитическую поддержку и существенное финансирование. С другой стороны, силовики (в основном армия) и просоветские субъекты федерации относились теперь к новой российской власти настороженно, а временами почти враждебно.
А потому, после завершения консолидации власти, правительству стало ясно, что настало время разобраться с армией, а также с «красными» субъектами федерации и госпредприятиями.
Армию, по давно проверенным мировым лекалам, решили приручить «маленькой победоносной войной». Благо в очередном непризнанном государственном образовании, гордо назвавшим себя Чеченской Республикой Ичкерия, как раз случился какой-то малопонятный квази-государственный переворот.
Да и вообще эта Ичкерия незаконно появилась на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР, всегда входившей в состав РСФСР. Тем более, что с 9 января 1993 года властями Российской Федерации эта территория опять стала официально считаться Чеченской Республикой в составе РФ.
Появился законный повод провести «Операцию по восстановлению конституционного порядка». А только что назначенный министр Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике Николай Егоров уверенно пообещал, что 70% чеченцев поддержат ввод войск и будут посыпать российским солдатам дорогу мукой, а остальные 30% отнесутся нейтрально. За что потом и поплатился своей должностью.
Чечня вообще считалась «безобидным» объектом. Она была демографически и территориально небольшой, удаленной и экономически незначительной. То, что надо. Тут и армию объединить можно, а заодно и «сильную руку» мятежным администрациям показать.
Но потребовался почти год, чтобы Совет Безопасности РФ собрал «Группу руководства действиями по разоружению бандформирований в Чечне». Любопытно, что министр обороны Российской Федерации Павел Грачёв категорически выступал против ввода войск в Чечню. И именно за такие «пацифистские настроения» чуть было не слетел в отставку.
Военная операция рассматривалась исключительно как продолжение «победоносной войны» против Верховного Совета в Москве. Громко, красиво и быстро. И также должна была эффектно закончиться буквально в считанные дни. Этаким подарком к Новому году. Но, снова пользуясь шикарным афоризмом председателя Правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина, кстати, весьма ярого сторонника зачистки в Чечне: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

