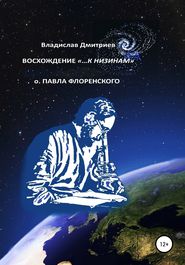 Полная версия
Полная версияВосхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
О том, как он себя чувствовал в эти дни, можно узнать из следующих строк: «1937.IV.4. … в связи с трудностями и неполадками нашего производства, чувствую себя весьма неудовлетворительно. … это какая-то внутренняя тревога, смятение чувств. Я почувствовал, как мне недостает природы и как отвратительно производство, всегда мне чуждое. Ведь в основе всякого производства всегда лежит копейка, и она не становится много выносимое от того, что идет не в индивидуальный карман, а в общий».
В его письмах затрагивается много различных тем, там можно найти и рассуждения о бессмысленности гражданских войн, которые периодически вспыхивают в истории различных стран, и, к сожалению, актуальны на современном этапе для ряда стран. Эти мысли у него появились после прочтения книги «История Англии», но, как у него обычно и бывает, на примере Англии 14 века он делает обобщение обо всех гражданских войнах, в частности, пишет: «1937.IV.4. № 97. Дорогой Олень, кажется я писал тебе уже об “Истории Англии”. … Непрестанные войны, то внешние, то междуусобные, смысла и мотивов которых не доищешься, да едва ли знали их и сами деятели XIV века. Но бессмысленность этих войн ничуть не мешала им быть кровопролитными до последней степени. … В немотивированности войн легко убедиться по переходу командного состава и их войск то на одну сторону, то на другую; следовательно, никакой идеи и даже никакой определенной заинтересованности в результатах войны у них не было. Меня поражает бессмысленность человеческих действий, не находящих себе оправдания даже в своекорыстии, поскольку люди действуют в ущерб и собственным своим интересам. О моральной стороне говорить не приходится. Сплошное клятвопреступление, обман, убийства, низкопоклонничество, отсутствие каких бы то ни было устоев. … Мой вывод (впрочем, я уже давно пришел к нему): в человеке есть запас ярости, гнева, разрушительных инстинктов, злобы и бешенства, и этот запас стремится излиться на окружающих вопреки не только нравственным требованиям, но и собственной выгоде человека. Человек неистовствует ради неистовства. Цепи твердой власти до известной степени сдерживают его, но тогда человек начинает ухищряться сделать то же, обходя закон, в более тонкой форме. Конечно, было бы несправедливо утверждать, что все таковы. Но таковы многие, очень многие, и в силу своей активности эти хищные элементы человечества занимают руководящие места в истории и принуждают делаться хищными же прочее человечество». Вывод на все времена и, к сожалению, актуальный. И, заканчивая письмо, пишет: «Вот, … что усмотрел я на частном случае – истории Англии XIV века. Стало ли человечество лучше? Сомневаюсь. Оно стало внешне приличнее, облекло насилие в формы менее яркие, т. е. не дающие хороших сюжетов для эффектных трагедий, но суть дела не изменилась».
С конца апреля в его письмах начинают проскальзывать грустные ноты завершающего свое дело человека: «1937.IV.20. … Оглядываясь назад, я вижу, что у меня никогда не было действительно благоприятных условий работы, частью по моей неспособности устраивать свои личные дела, частью по состоянию общества, с которым я разошелся лет на 50, не менее – забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более как на 2–3 года». Полностью оправдавшаяся оценка своего положения в истории страны, но все же: «… Хочу сказать: надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство никто и ничто, не вернет».
Ухудшающиеся условия в лагере, наступление мрачных времен в стране отражается в его мыслях, которые выливаются в письма: «1937.V.11. Соловки. … Наша водорослевая эпопея на днях кончается, чем буду заниматься далее – не знаю, м. б. лесом, т. е. хотелось бы применить в этой области математ. анализ. Окончание работ по водорослям естественно: ведь в моей жизни всегда так, раз я овладел предметом, приходится бросать его по независящим от меня причинам и начинать новое дело, опять с фундаментов, чтобы проложить пути, по которым не мне ходить. Вероятно, тут есть какой-то глубокий смысл, если это повторяется на протяжении всей жизни – наука бескорыстия. Но все же это утомительно. Если бы я собирался жить еще 100 лет, то такая судьба всех работ была бы лишь полезна, но при краткости жизни она лишь очистительна, а не полезна. Впрочем, в Коране сказано: “Ничего не случается с человеком, что не было бы написано на небесах”. Очевидно, обо мне написано быть всегда пионером, но не более. И с этим надо примириться. Пишу же об этом не столько для себя, как для детей: уроки рода должно усваивать и осознавать, чтобы использовать свою жизнь, приспособляясь к ожидаемому и наиболее вероятному. Моя мысль и забота всецело с вами, и хочется передать вам опыт жизни и размышлений. – 1937.V.13. Пока я писал это письмо, произошли изменения в моей жизни: Сейчас переселяюсь в Кремль».
4.11. Итоги
В это время он пишет, по мнению автора, очень важное для понимания его судьбы и вклада в науку письмо. Еще во время написания книги «Лики науки», собирая материал, в частности, о П.А. Флоренском, который работал в ВЭИ, автору приходилось вступать в дискуссии по вопросу – а что такого сделал Флоренский?
Действительно: в школах не проходили, в институтах не обучали, ссылок на используемые идеи и авторства в учебниках не было, научной литературы с его именем тоже, а та, что выходила при его жизни изымалась из библиотек и уничтожалась. Увы, существовавшая в его время власть постаралась стереть из памяти нескольких поколений его имя, предать его забвению. Отчасти замысел этой книги и был вызван этими дискуссиями, но началось все с этого письма, откуда можно понять и энциклопедичность его интересов, и его научную судьбу. Для лучшего восприятия здесь письмо приведено в форме, которая использовалась в книге автора:
«П.А. Флоренский – К.П. Флоренскому 1937.V.13. Соловки
Дорогой Кирилл,
В газете мне попалась заметка об учреждении при Академии наук секции по технологии водорослевого дела, а мама пишет относительно лекций Павла Николаевича о мерзлоте. Так от меня всегда уходит то, над чем я работал, в чем достиг результатов и на подготовку к чему затратил много труда. Мысленно просматривая свою жизнь (пора подводить итоги), усматриваю ряд областей и вопросов, которые начал я и которыми потом занялись “всъ” (чтобы не прочел все), то есть очень многие, мне же либо пришлось оставить дело, либо сам оставил, так как противно заниматься вопросами, к которым лезут со всех сторон и захватывают. Тебе может быть будет интересен список важнейших.
В математике:
1. Математические понятия как конститутивные элементы философии (прерывность, функции и прочее).
2. Теория множества и теория функций действительного переменного.
3. Геометрические мнимости.
4. Индивидуальность чисел (число-форма).
5. Изучение кривых in concreto.
6. Методика изучения формы.
В философии и истории философии:
1. Культовые нормы начатков философии.
2. Культовая и художественная основа категорий.
3. Антиномии рассудка.
4. Историко-филолого-лингвистическое изучение терминологии.
5. Материальные основы антроподицеи.
6. Реальность пространства и времени.
В искусствоведении:
1. Методика описания и датировки предметов древнерусского искусства (резьба, ювелирные изделия, живопись).
2. Пространственность в художественных произведениях, особенно изобразительного искусства.
В электротехнике:
1. Изучение электрических полей.
2. Методика изучения электрических материалов, основание электроматериаловедения.
3. Значение структур электроматериалов.
4. Пропаганда синтетических смол.
5. Использование различных отходов для пластмасс.
6. Пропаганда и разработка элементов воздушной деполяризации.
7. Классификация и стандартизация материалов, элементов и прочее.
8. Изучение углистых минералов как одной группы.
9. Изучение ряда пород горных.
10. Систематическое изучение слюды и открытие ее структуры.
11. Изучение почв и грунтов.
12. Йод.
Отдельно стоят. Физика мерзлоты. Использование водорослей. Хотел было написать тебе это поподробнее, но, переселившись в Кремль, растерял мысли, но помню, что надо было писать мало. Мне хотелось бы одно – чтобы вы сколько-нибудь воспользовались моими работами, привели их в порядок и сделали бы своими, в них вложено много труда и мысли, и я знаю, что из каждой работы можно сделать книгу. Еще одно: наблюдения и эксперимент получают свой смысл лишь тогда, когда они оформлены математически. А для этого далеко не всегда требуется большая тонкость анализа, часто удается получить хорошие результаты примитивными средствами. Поэтому приучайся формулировать итоги работы хотя бы просто кривыми и их уровнями. Крепко целую тебя, дорогой Кира».
Этим письмом в краткой форме он сам дает ответ на вопрос «а что сделал Флоренский?». Уже по содержанию чувствуется, что понимая, к чему идет дело, он старается подвести итоги, это действительно одно из его последних писем, но все же не последнее.
Даже когда он пишет детям, в его письмах чувствуется, что это уже своеобразные завещания. В том же письме, но только для дочери, можно прочитать: «… Очень трудно писать так, чтобы быть правильно понятым, когда приходится учитывать каждый квадр. сантиметр бумаги. Но за всем тем помни, я считаю своим долгом сказать все полезное, что могу сказать. … Возвращаюсь к травоядению. Кажется, было бы правильно признать то положение, что количество и разнообразие растительной пищи, а особенно травянистых частей, корней и клубней, есть мерило культурности общества. … Дело не в вегетарианских принципах, – которых я не признаю, – а в физиологическом воздействии растит. пищи на наш организм, от мяса грубеющий и быстро снашивающийся». И сразу свои кулинарные предпочтения для сохранения организма он связывает с творчеством: «Секрет творчества – в сохранении юности. Секрет гениальности – в сохранении детства, детской конституции, на всю жизнь. Эта-то конституция и дает гению объективное восприятие мира, не центростремительное, своего рода обратную перспективу мира, и потому оно целостно и реально. Иллюзорное, как бы блестяще и ярко оно ни было, никогда не м. б. названо гениальным. Ибо суть гениального мировосприятия – проникновение вглубь вещей, а суть иллюзорного – в закрытии от себя реальности. Наиболее типичны для гениальности: Моцарт, Фарадей, Пушкин, – они дети по складу, со всеми достоинствами и недостатками этого склада». И, заключая письмо, пишет: «… Ты не понимаешь чувство отца, которому хочется, чтобы дети его были не просто безукоризнены, но и представляли собою высшую ценность. Не для других, а для себя надо быть такими, но не важно, как о вас будут думать другие: быть, а не казаться. Иметь ясное, прозрачное настроение, целостное восприятие мира и растить беcкорыстную мысль – чтобы под старость можно было сказать, что в жизни взято все лучшее, что усвоено в мире все наиболее достойное и прекрасное и что совесть не замарана сором, к которому так льнут люди и который, после того как страсть прошла, оставляет глубокое отвращение».
Его положение становилось все хуже. Удивительная судьба, он быстро получил признание как философ мирового уровня, потом крутая перемена рода деятельности, снова подъем и признание уже как ученого, физика, математика, электроматериаловеда, и новое испытание уже советскими лагерями. Сначала относительно легкими и даже приносящими удовлетворение от деятельности, а потом все более и более жесткими. Но, спускаясь по воле судьбы к самым низинам человеческого существования, он демонстрировал духовное восхождение, оставаясь даже в самых трудных условиях носителем мудрости и смирения.
В начале июня 1937 года его положение резко ухудшилось, о чем можно прочитать в письме: «1937.VI.4. № 101. … Живу в Кремле, т. е. не живу, а влачу существование, т. к. работать в моих условиях нет никакой возможности. … В общем все ушло (всё и всъ). Последние дни назначен сторожить по ночам в б. Йодпроме произведенную нами продукцию. Тут можно было бы заниматься (сейчас пишу письмо напр.), но отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагает к занятиям, … даже письмо писать окоченевшими пальцами не удается. … По пустым помещениям хлопают разбитые форточки, завывает от вторжений ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий». Тревожное и печальное письмо, но он продолжает писать, единственное, что ему осталось – письма родным, и, прежде всего, детям, давая им свои последние советы: «Дорогая Оля, … употребляйте побольше трав, они не только вкусны, но и способствуют обмену веществ, содержа различные витамины. Напр. побеги (молодые) конского щавеля, звездчатка, крапива, одуванчики, корневище лопуха, корневище одуванчика. Во мне живет убеждение, что растительный мир, преимущественно в диком состоянии, содержит много различных веществ, которых нам не хватает в питании и что поэтому необходимо вводить в питание как можно больше разнообразных диких растений». «1937.VI.3—4. Дорогой Васюшка, вот несколько моментов морфометрии, которые могут быть тебе полезными. Общая постановка морфометрии – нахождение линейной конвергенции форм, в частности кривых контуров, из которых один принимается за стандарт, а другой характеризуется мерою своего отступления от стандарта. … Основная мысль: деление пород по процессу возникновения из предсуществующих минералов (или пород) и из среды, где будущих минералов еще нет (расплав, раствор), а возникнуть они могут по-разному, в зависим., от условий. К числу последних пород относятся магматические, лед, выкристаллизовавшиеся вроде соли, гипса и т. д. Третья группа – это те породы, которые хотя и возникли из готовых минералов, но последние затем более или менее преобразовались».
4.12. Атомный секрет
Но вдруг, среди бытовых советов и геологических вопросов возникает неожиданная тема – вопрос получения тяжелой воды: «1937.VI.3–4. Дорогой Кирилл, в прошлом письме я писал тебе о намечающейся возможности получать повышение концентр, тяжелой воды посредством фракционного вымораживания». Что это за письмо и в каком контексте говорилось «о намечающейся возможности» неясно, так как это письмо в имеющихся у автора источниках отсутствует, хотя сам вопрос о присутствии в воде тяжелых фракций в письмах звучал ни раз, но вопрос о повышении концентрации т. е. о получении ее из обычной воды не поднимался. В этом же письме он конкретно рассматривает эту возможность и, что особенно странно, речь идет не о лабораторных исследованиях, а о промышленном производстве: «Припоминаю, есть чьи-то старинные опыты (поищи в моих мерзлотных материалах) с медлен, замораживанием воды, причем первые фракции льда садились на дно, т. е. были тяжелее воды – очевидно были из тяжеловодного льда. Имеешь ли ты представление об образовании донного льда? Этому внезапному процессу предшествует появление в воде тонких ледяных пластинок, дисков диам. неск. мм, при толщине в 1/10 мм (если не ошибаюсь, а м. б. и тоньше). Полагаю, первыми будут образовываться пластинки тяжеловодного льда, они будут садиться на дно, и потому, понятно, переохлажденная вода будет внезапно выкристаллизовываться на этих тяжеловоднольдовых пластинках. Следовало бы произвести ловлю этих первичных пластин у дна и определить их состав; а м. б. это и будет наиболее простой способ промышленного производства тяжел. воды. Поговори об этом с В.И. опыт прост, но многообещающ».
Очевидно, что он писал это для В.И. Вернадского, а значит вопрос о промышленном получении тяжелой воды уже поднимался. Дальше он подробно рассматривает связанные с получением тяжелой воды вопросы: «При определении содержания тяжелой воды по уд. в. ты столкнешься, однако с одним затруднением, а именно с многозначностью смысла уд. в. воды, поскольку тяжелых вод много (всего вод 9, если смотреть по х. составу, а по физическому составу, включая и химич. многообразие вод тысячи) и следов<ательно>, один и тот же уд. в. воды может отвечать весьма многим смесям различных вод. Правда, количеств, содержание их в воде невелико. Но принимая во внимание высокий уд. в. сверхтяжелой воды (1,33) и, кроме того, обогащение воды ее тяжелыми компонентами, которое м. происходить в разных колич. соотношениях, необходимо признать учет каждой из вод порознь совершенно неизбежным, иначе все выводы будут произвольны. На многообразие тяжелых вод и вытекающие отсюда последствия обрати внимание самое серьезное. – Есть еще способ повышения концентрации воды тяжелой – посредством фракционного выпаривания, но это делается в спец. колонке. Но, я думаю, такое упаривание следовало бы вести под вакуумом, при более низкой Т°, и тогда разность упругостей кипения скажется у различных вод более выпукло. Лед тяж. в. (эту мысль уже высказывал в 1934 г.) вероятно объяснит многие загадочные явления в области мерзлоты и мне весьма обидно, что не могу заняться этими вопросами. … Если бы свойства тяжеловодных льдов были достаточно изучены, то в строении льда, напр. озерного, можно было бы усмотреть форменные тяжеловодные элементы, различая их напр. по показателям преломления. … Применение ультрамикроскопа или способов затенения (напр. моего, а м. б. и других конденсеров с затенением) вероятно, откроет широкие горизонты в области участия тяжелой воды в образовании ледяных минералов и пород».
Это очень интересное и, в определенном смысле, загадочное письмо. Именно в это время практически во всех странах Европы, где была развита наука, выкристаллизовывалось понимание энергетических возможностей атомного ядра и, в том числе, его военного применения. О том, что Флоренский понимал эти возможности, здесь уже писалось. Тяжелая вода, как уже писалось, была открыта Г. Юри, за что он в 1934 г. был удостоен Нобелевской премии, а в 1934 г. Э. Ферми определил, что тяжелая вода является эффективным замедлителем нейтронов, что необходимо для повышения эффективности ядерных реакций и, кстати, засекретил результаты этих экспериментов.
Вскоре немецкий ученый О. Ган обнаружил деление ядер урана при поглощении нейтрона, которое было наиболее эффективными при их замедлении и, таким образом, практический путь к созданию атомной бомбы был открыт. Поэтому специалисты, понимающие проблему получения тяжелой воды в промышленных масштабах, становились стратегически важными. В этом письме Флоренский показал не только то, что он хорошо представляет проблематику тяжелой воды, но и то, что понимает, как ее получать и определять, а учитывая его талант, глубокие знания и практические навыки, очевидно, что проблему получения тяжелой воды он точно бы решил.
Это письмо он писал для сына Кирилла, работающего под началом А.Н. Фрумкина у В.И. Вернадского, который как директор Государственного радиевого института, знал и понимал значение тяжелой воды. Очевидно, письмо должно было дойти и дошло до него, как и все предыдущие, а значит, он был в курсе возможностей П.А. Флоренского. Но, что было предпринято по этому поводу, неясно. Дальнейшее развитие событий невольно наталкивают на конспирологические теории, ведь после этого письма практически сразу прекратилась его связь с семьей. Это было предпоследнее письмо, а последнее его письмо, которое дошло до семьи, было отправлено всего лишь через две недели, и оно было достаточно обычным для его положения вот, что писалось в этом последнем письме: «1937.VI.18. № 103. Дорогая Аннуля, … Жизнь наша резко изменилась; сидим безвыходно в Кремле, а т. к. работы почти нет, то во дворе всегдашняя толкучка. Заниматься при таких условиях не приходится, несмотря на усилия, которые я делаю в этом отношении, да и настроение неопределенности мешает сосредоточиться на чем-нибудь, требующем усилия и внимания, главное же – подъема. … Боюсь перемен, а признак, для меня верный, это некоторая привычка к определенному месту и примирение с ним. Сейчас я вошел в Соловецкую природу и потому начинает казаться, что обстановка должна измениться, но не в ту сторону, которая была бы желательна, т. е. не на Дальний Восток». 1937.VI.19. Дорогой Васюшка, … Нужно думать, натуральные ур-ния кривых очень полезны при изучении формы, равно как и непосредственное измерение К, как функции дуги. Но вопрос о применении этого подхода к угловатым контурам мною еще не разобран. – Ты мне не сообщил, над чем именно работаешь в наст. время. … Мое желание, впрочем, ограничивается пределами вашей работы, а самому делать что-нибудь не хочется – очень я устал (и отстал) созидать, тогда как довести до конца ничего не удается. Центр тяжести существования перешел уже из меня в вас, и мои мысли пусть развиваются в вас … 1937. VI. 19. Дорогой Мик … Наша сетчатка состоит из отдельных нервных окончаний, и протяженность изображения на ней воспринимается лишь в том случае, когда отдельные участки изображения попадают на разные элементы сетчатки. Предел восприятия протяженности – когда участки изображения попадают на 2 смежных элемента сетчатки. Если же все изображение попадает на один, то мы, хотя и видим нечто, но не протяженное, т. е. точку в строгом смысле слова, а если на линейный ряд элементов – то линию, т. е. длину без ширины, тоже в строгом смысле слова. 1937.VI.19. Дорогой Кирилл. … Но знаешь ли, как это ни странно, что почему-то мне симпатизируют многие магометане, и у меня есть приятель перс, два чеченца, один дагестанец, один тюрк из Азербайджана, один турок собственно не турок, а образовывавшийся в Турции и в Каире казахстанец. 1937.VI.19. Дорогая Оля, … Переживания детства и юности составляют наиболее прочный и наиболее содержательный зачаток всего последующего и о нем следует заботиться особенно внимательно. 1937.VI.19 Дорогая мамочка, … Я здоров, но работать по настоящему сейчас невозможно а отсутствие правильной и напряженной работы и расслабляет и утомляет одновременно». 1937.VI.19. Дорогая Тика, мне приходится всегда прощаться с чем нибудь. Прощался с Биосадом, потом с Соловецкой природой, потом с водорослями, потом с Йодпромом. Как бы не пришлось проститься и с островом».
Это были его последние слова, которые дошли до нас и в которых видна его усталость и неопределенность будущего, но чего-то особого нет и, тем не менее, связь на этом прерывается, как будто специально, именно после письма о тяжелой воде. Можно было бы предположить, что Вернадский, ознакомившись с письмом и понимая необходимость, «вытащил» Флоренского из лагеря, чтобы работать, например, в Радиевом институте над атомными проблемами. То, что Н.И. Вернадский знал и понимал проблему атомной бомбы говорит запись в его дневнике от 13 июля 1941 года: «Что происходит на фронте? Начало развала гитлеровской силы? Или обстановка перед применением последнего отчаянного средства – газов или урановой энергии?» [ 36 стр.123]. Не менее загадочен приведенный в книги П.В. Флоренского «Петрограф» на всю жизнь» следующий эпизод из жизни его отца Василия Павловича Флоренского, он пишет: «К В.П. Флоренскому тоже обратились за консультацией по вопросу об урановом сырье, и он дал важный прогноз, но… участвовать в урановой программе отказался. Позже семье он объяснил: «Я боюсь судьбы отца»». [40] Надо понимать, что участие в урановой программе того времени, давало очень много возможностей и для отказа надо было иметь серьезные основания.
Так же предположению о связи П.А. Флоренского с атомными секретами способствует то, что, например, в советском энциклопедическом словаре приведены даты его жизни – 1882 – 1943 гг. и родственникам была в 1956 году выдана такая же справка о его кончине. Однако на запрос автора из Радиевого института пришел ответ, что Флоренский П.А. в нем никогда не работал и это предположение не имеет под собой основания.



