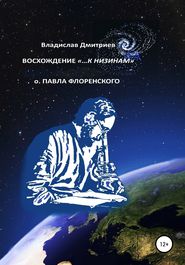 Полная версия
Полная версияВосхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
Это письмо по поднятым вопросам явно было предназначено именно для В.И. Вернадского, так как сразу далее идет речь о его работе, присланной им Флоренскому, который о ней пишет: «Очередные, задачи радиогеологии» получил, поблагодари. Как и всегда, у этого автора, его работа затрагивает вопросы величайшей важности и, как обычно для него, носит планирующий характер, больше ставя задач, чем решая их, решая же несколько схематически вероятно в изложении, чтобы не делать из статьи тома. Такое изложение, конечно, предотвращает возможные ошибки и избавляет от нареканий и остроты борьбы. Но автор слишком большой человек, чтобы ему стоило бояться ошибок или возражений. Его мысли, хотя бы и предварительные, его догадки должны быть закреплены, хотя бы в виду его возраста. Бездоказательная догадка такого исследователя стоит десятков исследований с доказательствами большинства других. К тому же, что завтра будет признано ошибочным, послезавтра подтвердится, и автору это известно лучше, чем многим».
Видно, что когда он писал именно это письмо, то особенно продумывал его содержание, так как кроме вышеприведенного ставит еще ряд вопросов, а именно: «1) … о возможном связывании атмосферного азота радиоактивными процессами – чрез посредство озона. 2). В числе радиоактивных элементов необходимо осветить роль аламбания, как склонного к сильному рассеянию. Меня очень занимает мысль о накоплении его водорослями… 3). Образование углеводородов действием ионизированных газовых потоков (см. мою теорию в книге по изоляцион. материалам, переведенной М.В. совместно со мною, а также в Вести Электротехники, а также в книге по пробою жидких диэлектриков моего сотрудника А. Волькенштейна). Тут есть какая-то связь с теорией образования нефти по Линде». Это письмо – яркий образец научного творчества, когда дается и новое описание, и рецензия, и постановка вопросов.
4.9. Творчески о многом
Насколько важно творчество он высказался в другом письме: «1936.IV.8—9. № 56. Дорогая Аннуля. Отвечаю на вопросы. … Что же до творчества в собств. смысле слова, то оно … вырвалось бы, если бы было … несмотря ни на какие препятствия. Ведь это большая разница – способности и творчество. Способности у многих, творчество у единиц на десятки миллионов, да и то не всегда такие единицы появляются».
Как творческий, углубленный человек Флоренский во главу угла ставит именно творчество, а не стяжательство, что собственно также выделяет его из большинства, он определенно высказывается по этому поводу: «1936.IV.19—20 … Вообще, для себя я терпеть не могу вещей и подчиняюсь необходимости иметь какой-то минимум с неудовольствием, а лучше всего было бы не иметь ничего».
Эта позиция, которая лишний раз подтверждает тот факт, что по настоящему увлеченному делом творческому человеку не так много надо для творчества. При этом все же необходимо создание условий, при которых его способности могли реализоваться полностью и не только в смысле бытовых условий, но и в постановке задач, которые в полной мере отвечают величине таланта. Растрачивать знания, эрудицию и интуицию талантливых людей на мелкие задачи – непростительная роскошь, учитывая их редкий дар. Но, к сожалению, как образованному и талантливому человеку ему зачастую приходится сталкиваться с тем, что: «1936.IV.23. … глупость давит, ее не соберешь, так она обширна. Нужно быть слишком благодушно настроенным, чтобы считать глупость рассеянной редкими блестками, тогда как она течет сплошной струёй». И хотя это его заключение относилось к условиям лагеря, все же чувствуется, что он высказывается в более широком смысле.
Сам Флоренский входил именно в редкие творческие единицы с широким диапазоном интересов и знаний, а потому важны даже такие высказывания: «Всегда я “прописывал” йод, т. к. это одно из немногих лекарств, которое считаю действенным, а кроме того испытал его на практике. А говорю об йоде я потому, что он действительно очень интересное вещество и очень интересный элемент.… Кстати сказать – любимый элемент моего любимого Мих. Фарадея».
Примечательно, что его мать, которая так рано подарила ему учебник физики, постоянно поддерживала его увлечение наукой и особенно физикой, тонко чувствуя и понимая силу его таланта, что видно из его ответа ей: «1936.IV.23–25. № 58. Дорогая мамочка. … Ты жалеешь, что я не принимаю участия в современных работах по физике. Но ведь это не только потому, что я не в Москве. Дух современной физики, с ее крайней отвлеченностью от конкретного явления и подменою физич. образа аналитическими формулами, чужд мне. Я весь в Гете-Фарадеевском мироощущении и миропонимании. Современная физика есть квинтэссенция буржуазного мышления. … Физика будущего должна пойти по иным путям – наглядного образа. Она должна пересмотреть свои основные позиции. … Нет, и в Москве я … стал бы заниматься космофизикой, общими началами строения материи, но как она дана в действительном опыте, а не как ее отвлеченно конструируют из формальных посылок. Ближе к действительности, ближе к жизни мира – таково мое направление. Ведь не без причины я ушел в свое время в электротехническое материаловедение». Правда, причиной его ухода в материаловедение было не желание стать «ближе к жизни мира», а совсем другие обстоятельства, на которые, как кажется, он и намекает.
В сложившемся положении ему очевидна судьба интеллигенции в стране и понимание генезиса этого, о чем несколько аллегорично он пишет: «1936.IV.27–28 … Дорогой Олень. … Чтобы вырастить великое надо выполоть кругом все мелкое, или мелкое заглушит великое, поскольку второй принцип термодинамики (в углубленном толковании) сводится к тому, что естественно, т. е. вне культуры, вне деятельности разума и жизни, низшее вытесняет высшее, т. к. низшее всегда более вероятно, чем высшее. В естественном состоянии менее благородные виды растений и животных забивают и вытесняют более благородные, как, равным образом, низшие формы энергии и материи сменяют более высокие. Лишь установкою культурных барьеров можно бороться против этого разложения в мировом процессе. И эти барьеры достигаются трудными формами – везде в технике, в искусстве, в науке, в быту и т. д.». Объяснив с точки зрения термодинамики, почему низшее вытесняет высшее, удачно применив, таким образом, к обществу законы физики, дал и решение этой проблемы уже с позиции образования и культуры.
В следующем своем письме он раскрыл вопрос социального общения в коллективе: «1936. VI.07. Дорогой Олень. … Мудрость жизни – в умении пользоваться прежде всего тем, что есть, и в правильной оценке каждого из явлений сравнительно с другими. … Ведь товарищеская среда потому перетягивает к себе все внимание, что товарищеские отношения в сущности безответственны, каждый отвечает сам за себя и каждый занят своими интересами. Поэтому в ней легко. Но эта легкость есть легкость пустоты, а все подлинное требует усилия, работы и несет ответственность. Зато, доставшееся с усилиями, действительно внутренне проработанное, остается на всю жизнь».
И если в письмах дочери он старался делать предупреждения согласно её возрасту, то уже в письме сыну были более серьезные наставления, связанные с научными исследованиями: «1936.VII.7. 4 ч ночи. № 67…. Дорогой Васюшка, … наши суждения и выводы относительно естественнонаучных фактов никогда не бывают достоверными, и думают об этом иначе лишь те, кто ничего не понимает в естествознании. Все суждения и выводы лишь вероятны, в большей или меньшей степени. Надо оценивать степень вероятности их. Тогда можно не бояться и суждений не очень вероятных, ибо противное ведет к параличу творчества и интуиции. В работе разные выводы имеют каждый свой коэффициент вероятности, и если мы учитываем его, то работа будет и критической и сочной. Иначе же получится либо фантазирование, либо засушивание работы и умерщвление молодых и м. б. наиболее обещающих, но не сформировавшихся побегов мысли и опыта». Вероятностная оценка получаемых результатов научных экспериментов широко стала применяться только с 50-х годов XX века.
О смысле и ценности жизни он пишет матери проникновенные строки: «1936.VII.28—29. … № 70. Дорогая мамочка, … я возвращаюсь к впечатлениям детства. Прежде всего потому, что внутренний мир выкристаллизовывается около них и ими существенно определяется. … Если жизнь вообще имеет смысл и ценность, то забывать прошлое – неблагодарность и неразумие, ибо все становится прошлым, и тогда вся жизнь в сумме должна оказаться чистым нулем. Память о прошлом есть и долг, и содержание жизни, и нельзя ценить настоящее и пользоваться им, если оно не коренится в прошлом. И наконец, жизнь, смыкаясь, под старость возвращается к детству, таков закон, такова форма целостной жизни… Мы живем, подымаясь на гору жизни, затем доходя до вершины жизни и наконец, спускаясь. Но восходя, мы проходим напластования своей личности в одном порядке, а нисходя их же, но в порядке обратном. Каждому этапу роста соответствует этап старения, и тогда возвращаются те же интересы, те же мысли, та же настроенность, хотя все это и в иной тональности».
И снова в письме дочери Ольге глубокие наблюдения и философское обобщение: «1936.VIII.25 …. Мечтательность создает в нас болото, где нет никаких твердых точек, никаких реп´ер, … никаких критериев реального и иллюзорного, ценного и лишенного ценности, хорошего и плохого. Осуществляя возможность, пусть слабо и плохо, ты можешь судить о ней, исправлять, идти дальше; оставаясь пассивной, окружаешься туманом призраков, но и призраки со временем выдыхаются, бледнеют, меркнут. Начинаются спячка и вместе глубокая неудовлетворенность. Русской натуре пассивность весьма свойственна, но именно из пассивности происходит, далее, вечное беспричинное недовольство, неудовлетворенность, колебания между нетрезвым самопревознесением и унылым самоуничижением. Скольких знаю я людей, которые проглатывают книги в десятки раз более моего, у которых запасы должны быть в десятки раз большие моих. Но проку от этих запасов – никакого. Эти люди не только не могут породить свежей идеи, но не способны даже просто разобраться в самом простом вопросе, когда он появляется пред ними не препарированный в книге, а реально, в природе и жизни. Такое знание хуже незнания, т. к. расслабляет и внушает ложную мысль об овладении предметом. Между тем, всякое знание должно быть не самодовлеющим комом в душе, а лишь вспомогательной линией нашего жизненного отношения к миру, нашей связи с миром. То, что сказано о знании – значения общего, относится и к искусству, и к философии, и к быту».
Можно задаться вопросом: почему в его письмах так много рассуждений, описаний, научных и литературных исследований? Он разъясняет и это: «1936.VIII.25. … мне и не о чем писать – кроме как о природе и ее исследовании, или о литературе. О людях и нравах считаю неуместным, личной жизни, помимо работы у меня нет, дрязги вовсе не интересны. Но меня подвигает мысль, что, быть может, какие-либо из моих сообщений о природе натолкнут вас на полезное в вашей собственной работе, и я был бы рад, если бы небольшая часть мною сообщаемого была так воспринята».
Именно возможность в письмах донести свои мысли и идеи в надежде, что все же кто-то прочтет, поймет и использует их в своей деятельности, двигает им. Содержание писем показывает, что его жизнь и мысли предназначались «для всех» в самом широком смысле и можно только низко поклониться всем тем, кто сохранил их.
Если интересуют его мысли о творчестве, то наверно, стоит ознакомиться и с таким его высказыванием, которое он прислал дочери и, хотя здесь речь идет об овладении музыкальным инструментом, как обычно, его высказывания имеют более общий характер: «1936.Х.12—13 … Ничто не усваивается прочно с налету. Действительное овладение предметом начинается лишь с того времени, когда все вспомогательное сделалось подсознательным и из головы перешло в руки, пальцы, глаза и т. д. (т. наз. «условный рефлекс»). Если это достигнуто, то открывается возможность и творческого подхода, разумеется, при наличии творческих импульсов. А в противном случае творчество, хотя бы самое подлинное, бессильно: вся энергия идет на трение скрипучего механизма».
В это же время продолжилась его научная дискуссия с Вернадским по письму-статье, в которой он высказал мысль о влиянии пространственной кривизны на скорость протекания процессов на её поверхности. Хотя дискуссия пошла по пути уточнения терминологии, он дал дальнейшее развитие своей мысли, особо отметив важность своих выводов о связи кривизны поверхности и скорости процессов на ней: «1936.Х.12—13. Дорогой Кирилл. … Меня очень тронуло письмо В. И., поблагодари его и скажи, что изотопами калия постараюсь заняться при первой возможности, обдумываю методику…». Здесь можно предположить, что все же Вернадский не очень хорошо представлял, как, впрочем, и большинство жителей страны в то время, условия Соловецкого лагеря, видимо, ориентируясь на тот свободный режим, который был у Флоренского в Сковородино. Флоренский, в свою очередь, и не мог объяснить, что в реальности происходит, цензура этого бы не допустила, а потому и дальше продолжал дискуссию в сложившемся тоне: «…Термин асимметрия не вполне точен, я согласен в этом с В. И., но диссимметрия мне не нравится, как слово составленное из латинского и греческого. Лично для себя я иногда применяю термин ingruentia, ингруэнтность. Так, вот, очень важно, что ингруэнтность указывает на существование в пространстве измерения дополнительного к тем, которыми характеризуются ингруэнтные объекты. Разница между объектами ингруэнтными в различии их поэтому дополнит(ельному), измерению и, прежде всего, по времени. При переходе через поверхность время выворачивается. Что же должно случиться при переходе от одной поверхности к другой, с другою кривизной, или точнее, от точки с одной кривизной к точке с другой? Скорость должна измениться у всех процессов, идущих на поверхности, в частности скорость хим. реакций, а потому и электрохим. потенциала. Это установлено мною рядом опытов (растворение проволок разного диаметра, с соблюдением конечно всех необходимых предосторожностей для устранения несортованности, разницы хим. состава и т. д., измерение эл.‑хим. потенциала их и т. д.). Как же меняется скорость? Мною найдена зависимость этой скорости и потенциала от кривизны. Принципиально же: скорость д(олжна) измениться так, чтобы компенсировать изменение кривизны во времени («скорости времени»), т. е. чтобы если бы мы стали жителями этой поверхности и пользовались бы мерою времени, соответствующей кривизне поверхности, то при измерении скорости реакций этою, местною, мерою времени, не заметили бы изменения скорости процесса. М. б. это тебе не будет понятно, но все же сохрани в памяти, когда-либо поймешь это мое принципиально важное соображение».
Свои глубокие рассуждения он делал в совсем некомфортных условиях и с пониманием определенной тщетности своих усилий: «1936.Х.19. Соловки. № 76. Дорогая мамочка. … Сейчас пишу тебе под свист Борея, раздающийся со всех сторон. Не имея возможности заниматься частными вопросами математики и физики, а также в силу всегдашней склонности к натурфилософии, я все более ухожу в общие вопросы естественнонаучной картины мира, но не схематически, а фактически, собираю разные данные, ведущие к эмпирическому обобщению. Главным предметом внимания служит биохимия и биоморфология в связи с геологическими и технологическими вопросами. Однако, везде не хватает данных, т. к. приходится пользоваться случайными книгами и вообще случайным материалом, какой попадется, а не подбираемым по желанию и плану. М. б. и ошибочно, но при такой работе все время имею в виду детей, думая, что им мой материал мог бы быть поучителен. А, впрочем, в душе сознаю, что каждый лишь сам собирает себе нужный материал для выводов, собранный же другими под определенным углом зрения обычно остается неиспользованным. Но такова жизнь – сознаешь тщетность усилий и все-таки надеешься, вопреки тому, что о жизни знаешь».
Конечно, Флоренский совершенно справедливо понимал, что подбор материала каждого исследователя происходит исходя из его собственной эрудиции, понимания и целей, но материал собранный, и осмысленный крупным ученым, представляет особую ценность, так как он принципиально глубже и поучительней для последующих поколений. В этом смысл научных школ, когда образ мыслей и понимание крупного ученого передается ученикам, но если происходит разрыв в передаче знаний и подходов, то неизбежна и потеря целого поколения исследователей, из которых снова должен выдвинуться лидер, формирующий свою школу, но вот какого качества этот лидер, будет неясно. По крайней мере, история ВЭИ показала, как повлиял Флоренский на формирование плеяды учеников и сослуживцев и на общий научный уровень института.
Как здесь уже описывалось, формирование Флоренского как ученого началось с самого детства и в письмах к дочери это подтверждается: «1936.Х.23. … У меня с детства был особый нюх на явления и вещи, которые магически привлекали мое внимание без какого-либо явного повода. От них волновался не только ум, но и все существо, билось сердце, пробегал по спине холод. Уже много лет спустя, потом открывалось, что это явление или вещь в самом деле представляют исключительный интерес, что они – “особые точки” (выражаюсь математически) мировой ткани и что в них ключи к пониманию глубокого прошлого мироздания или каких-либо затаенных его уголков».
К ней же он пишет письмо, которое проливает свет на то, как формировался его интеллект, что при этом происходило и к чему приводило: «1936.Х.29—30. № 78. … Знаешь ли, у меня в детстве, особенно от 4 до 8–9 лет, были, никогда не прекращавшиеся, головные боли. Это можно сравнить, как если бы кто-нибудь сильною рукою схватил за затылок. От этих болей я постоянно заламывал шею назад, откидывая голову, словно стараясь скинуть тяжесть и эту схватившую меня руку, но конечно тяжесть и боль не проходили. Кроме того, вероятно от малярии, был ежедневный жар. Папа, который водил меня пройтись, был обеcпокоен и много раз в день спрашивал “болит ли головка” и щупал лоб. … Папу во время этих прогулок я закидывал тысячью вопросов, гл. образом естественно-научных и в особенности по части тропических стран. А в голове, м. б. в связи с жаром, непрестанно звучали симфонии. Общий характер их помню и по сей день. Это были величественные многоголосые контрапункты, в духе Баха, а частью музыка в стиле Гайдна и Моцарта». Возможно это своеобразное болезненное состояние все же было признаком неординарности интеллекта, вызванного усиленной работой головного мозга.
Свой подход к жизни, работе, науке он передавал своим детям в письмах, иногда четко расписывая все по пунктам, как в этом письме: « 1936.Х.29—30 … мне хочется дорогой Мик, чтобы ты привык регистрировать наблюдения, накапливать их и сопоставлять между собою; чтобы ты … научился в работе находить удовлетворение и основной стержень, на котором укрепляется вся жизнь. … Да, … и натиск иногда совершенно необходим; но успешен он бывает только тогда, когда ему предшествует накопление, упорный и невидный труд, в котором проходили годы. Без этой подготовки натиск, даже самый блестящий, дает результаты непрочные и ненадежные, чаще же всего вовсе не достигает цели. Тогда наступает разочарование, уныние и сомнение в самой цели – обычная судьба большинства наших соотечественников». Представляется, что имел он в виду склонность соотечественников к революционным преобразованиям, со всеми вытекающими последствиями. Но в научной работе надо: «… упорно и постоянно работать … овладеть основными … средствами всякой работы: 1) привычка к систематической работе и экономия времени;
2) привычка и умение закрепляет сделанное, для чего нужна отчетливая и систематизированная запись;
3) овладение языком – точной, компактной, грамотной и изящной речью;
4) овладение иностранными языками, хотя бы до степени чтения книг;
5) овладение методами математической обработки данных опыта;
6) овладение фототехникой (сейчас он бы, наверно, написал компьютерной техникой);
7) умение чертить и рисовать – не художественно, но свободно, грамотно и достаточно изящно. Я добавил бы к этим предпосылкам еще, … знание древних языков; знание истории вообще, а науки и техники – в особенности; овладение основными философскими понятиями; знакомство с искусством».
Вот такая программа из семи пунктов всякому начинающему служить науке. Но руководствоваться этой программой целесообразно при условии, что знаешь: «… для чего работаешь, к чему именно стремишься; а чтобы знать это, надо ясно понимать, какие именно задачи стоят в современности как подлежащие разрешению и, по возможности, ориентироваться на них. Но под современными задачами я разумею не непременно те, которые кем-либо указаны, а по существу ждущие своего решения, хотя бы никто о них не говорил: каждый должен самостоятельно уметь отыскивать наиболее современное и насущное». Это недвусмысленное указание на необходимость самостоятельной постановки направления исследований, исходя из эрудиции и понимания, а не только из указаний научного руководителя, хотя понятно, что для этого нужно быть уже сформировавшимся специалистом.
Но, передавая свой опыт жизни, он старался дать и методику освоения материала, и понимание внутреннего мира людей, в том числе и людей науки. Ведь трудно сразу понять степень глубины внешне эрудированного, сыплющего многочисленными терминами и, особенно, имеющего официальные регалии, человека, и поэтому в его письме можно прочитать следующие строки: «1936.ХI.11—12 … Дело даже не в величине человека, а в строении его мысли. У большинства мысль, м. б, и сильная по-своему, тем не менее внешняя, пустая в ней нет реальности, а одни только шахматные ходы, не постигающая природу, а подделывающая ее и приспособляющая к извне придуманным схемам. Читая большинство работ, я удивляюсь их ловкости и не верю ни одному слову. Все это – марево, м. б. более или менее стройно оформленное, но говорящее о виртуозности писателей-исследователей, а не о природе».
Далее в качестве примера настоящего, глубокого исследователя, с которым ему хотелось бы взаимодействовать, приводит В.И. Вернадского, говоря о нем: «Вл. Ив-ча я не считаю виртуозом, мысль его не доводится до прозрачности, не оформляется законченно, часто не досказана и противоречива. Но в нем я всегда ощущаю естествоиспытателя, а этого-то и не хватает подавляющему большинству: они не испытатели природы, а шахматные игроки. Современное естествознание сделало огромные успехи. Но я опасаюсь, не утратило ли оно главного – живого ощущения реальности своего объекта. Вот почему мне грустно не иметь возможности перекинуться словом с тем, кто этого ощущения не утратил и живет в нем, продолжая традиции подлинных естествоиспытателей прошлых веков».



