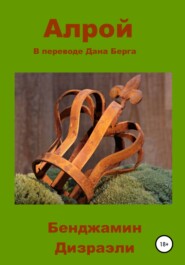 Полная версия
Полная версияАлрой
“У меня нет веры, – признался черный негр, сверкая белозубой улыбкой, – но если б я поверил, то непременно в твоего бога”, – добавил он, обращаясь к индийцу.
“Я всегда хотел быть иудеем, моя мать была хорошей женщиной”, – глубокомысленно произнес Шерира.
“Евреи богаты”, – заметил кто-то.
“Прибудешь в Иерусалим и там увидишь христиан”, – сказал Шерира Алрою.
“Христиане – неверные, проклятые гяуры. Мы все против них”, – заявил Кислох.
“С их белыми лицами!” – сказал негр.
“С их голубыми глазами!” – добавил индиец.
“Чего хорошего можно ждать от людей, живущих в странах, где не светит солнце!” – заключил сын выходца из Эфиопии.
4.5
Алрой проснулся после полуночи. Бравые разбойники безмятежно спали. Луна в небе. От костра остались тлеющие головешки. Тяжелые тени висели над амфитеатром. Алрой осторожно переступал через тела спящих. Он не арестант, но можно ли полагаться на заверения в дружбе этих людей вне закона? Захотят – и друга превратят в раба, или, что не лучше, возьмут к себе в ученики. А как же цель высокая? Нет, оставаться здесь нельзя. Алрой бесшумно влез на стену, спустился с другой стороны, обогнул ионический храм, служивший ему маяком, прошел по главной улице и, проделав путь в обратном порядке, вышел из городских ворот.
Смутный страх преследования гнал беглеца вперед и вперед, заставлял забыть об отдыхе, еде, питье. А пустыня становилась все горячей. Исчез пропитанный ароматом растений освежающий ветерок. Природа замерла. Тревожно и тихо, предвестие худого. Воздух вновь пришел в движение. Горячий ветер обжигает щеки. Жажда. Песчаные холмы кружатся перед глазами. Тяжело дышать, тупая боль в мозгу, язык распух. Силы убывают, жар лишает воли. Уныние сменилось отчаянием, конец которого – смирение с судьбой. Напрасно озирается беглец – помощь не придет. Серое, мутное небо поглотило горизонт и с ним надежду на спасение. И тут явилось чудо. Откуда ни возьмись, поток прохлады – воды и воздуха – в усладу превратил страдание. То милосердная пустыня послала жертве своей спасительный мираж.
Удушливый горячий ветер – жители тех мест его зовут “симум” – взвихрил от земли до неба тучи песка. Свистящее дыхание симума убивает живое. Алрой теряет силы, и с ними мужество и воля покидают его. Он гибнет. Он не дойдет, не отыщет, не завоюет, не спасет, не воцарит. Если не спастись от смерти, то хоть умереть со славой, но и слава ускользает… Здесь, в начале своего пути он примет смерть. Он опустился на колени. Все, что ему осталось сделать – успеть попрощаться с мечтой и с жизнью.
“О, жизнь моя! Пока виднелась впереди – горька казалась, дошел до конца и плачу о том, что сладость твою не угадал. Теперь прощай! Мирьям, сестра, и ты прощай! Не видать мне более ни красы твоей, ни заботы, ни доброты. Прощай, наставник мой Джабастер. Учеником, не успев науку превзойти, покидаю мир. Прощайте дядя, дом, Хамадан. Прощай, дикая природа, ты берешь жизнь мою. Слава? Я не вкусил тебя. Святая земля? Я не достиг тебя. Иерусалим? Я не удостоился видеть тебя. Прощайте!” В смертный свой час человек одинок.
Обессиленный, Алрой окончил высокопарную речь. Летящий песок в бурый цвет окрасил воздух. Не стало ни неба, ни солнца, ни света, ни тьмы. Стихия необузданной пустыни вручила ей свою жертву.
Глава 5 Господин Хонайн спасает Алроя
5.1
“Близок пустыни конец! Увидим долину цветущую, реку полноводную, берега зеленые. Насладимся красой и прохладой. Чем мы хуже халифа? Алла-илла, Алла-у. Алла-илла, Алла-у!”
“Благословен пребывший у могилы Пророка. Счастлив разбогатевший на далеких рынках. Доволен разжившийся самоцветами востока и шелками Самарканда. Алла-илла, Алла-у. Алла-илла, Алла-у!”
“Тебе, благородный купец, рады в святой мечети и на шумном базаре. Примешь награду за почетный свой труд. Алла-илла, Алла-у. Алла-илла, Алла-у!”
“Верблюд запнулся, Абдалла. Глянь-ка, что там на дороге”.
“Клянусь гробом Магомета, это мертвец! Несчастный. Нельзя паломнику идти пешком. Набожность без разумения есть глупость. Пришпорь верблюда, прочь от трупа!”
“Впрочем, погоди. Пророк заповедал нам милосердие. Последуем его завету. Обследуй тело, нет ли жизни в нем?”
Из Мекки в Багдад возвращался караван. Один дневной переход оставалось преодолеть ему, чтобы достичь реки Евфрат. Радостный хор путников приветствовал родную щедрую землю. Тысячи нагруженных товарами верблюдов тянулись бесконечной вереницей. Животные двигались группами, каждую возглавлял особенно крупный верблюд, он шел первым, звеня колокольцами. Путники вооружены до зубов. Впереди каравана выступала Сельджукская кавалерия, курдская охрана замыкала шествие.
Абдалла – любимый слуга почтенного купца Али. Выполняя приказ господина, он слез с верблюда и принялся разглядывать неподвижное тело Алроя.
“Курд, судя по одеянию!” – провозгласил Абдалла, – “и чего ему тут надо?” – добавил с усмешкой.
“Лицом на курда не похож. Возможно, пилигрим с гор”, – заметил Али.
“А может, это неверный, проклятый гяур. Кто бы ни был – он мертв!” – возразил Абдалла.
“Он жив, он дышит, одежда на нем шевелится!”
“Это ветер”.
“Я слышал, он вздохнул”.
Несколько пеших путников обступили тело.
“Я врач, – заявил подошедший армянин, – проверю пульс. Слабый, но есть. Сердце бьется”.
“О, Бог всемогущий!” – воскликнул Али.
“А Магомет – его Пророк на земле, – вставил слово Абдалла, – а ты не поклоняешься ему, неверный армянин!” – добавил.
“Я врач. И хоть не верю в вашего Пророка, Бог даровал мне талант исцелять вас, верноподданных, а умелый лекарь тысячу воинов стоит. Достопочтенный Али, эта жертва пустыни может выжить”, – сказал армянин.
“Достойно награжу тебя, врач, если вылечишь юношу. Он понравился мне. Хочу, чтоб он подавал мне комнатные туфли в моем диване в Багдаде”.
“Дай мне верблюда, и я спасу ему жизнь”.
“У нас нет!” – вмешался слуга.
“Пойдешь пешком, Абдалла”, – сказал Али.
“Правоверный пойдет пешком, чтоб спасти жизнь курда? Господин подавальщик комнатных туфель ответит за это, вкусит сладости ударов палочных!” – пробормотал Абдалла.
Армянин пустил Алрою кровь. Предводитель изгнания открыл глаза.
“Бог милостив к терпящему бедствие”, – сказал Али.
“Лучше б погибель на него послал!” – вновь пробормотал Абдалла.
Армянин достал сосуд с сердечным настоем, влил жидкость в горло Алрою. Кровь потекла быстрее.
“Юноша будет жить, почтенный купец”, – сказал врач.
“Слава Пророку нашему!” – воскликнул Али.
“Клянусь гробом Магомета, это еврей!” – вскричал Абдалла.
“Пес!” – отозвался Али.
“Фу!” – сказал слуга-негр и отошел с брезгливостью в лице.
“Он умрет!” – провозгласил врач-христианин и не стал перевязывать рану.
“И будет проклят!” – крикнул Абдалла, вновь взбираясь на верблюда.
Собравшиеся вокруг Алроя разошлись, продолжили путь. Подъехал всадник курд. Остановил коня, заметив истекающего кровью.
“Какой это негодяй ранил одного из наших?”
Курд спрыгнул с коня, снял рубаху, оторвал полосу ткани, сделал повязку и остановил кровь. Оттащил несчастного, уложил на повозку.
Караван миновал пустыню, вступил на землю плодородной долины. Люди ликуют – окончен долгий путь. Солдаты охраны радостно потрясают копьями, стучат ятаганами по щитам. Месяцы испытаний позади, вот он, благословенный Евфрат!
Широки и свежи, спокойны и мощны чистые воды Евфрата. Свежий ветерок рождается на груди его, несет прохладу и летит дальше и творит чудеса. Больной исцеляется, падший духом оживает, а здоровый и молодой брызжет ликованием и рад силе своей, и концу пути, и родной земле. Любят родину не за то, что хороша, а за то, что своя.
Караван остановился. Разбит лагерь. Сложены в кипы тюки с товарами. Верблюды опустились на землю, отдыхают. Кони расседланы, носятся по пастбищу, ржут, рады траве. Правоверные разостлали циновки и ковры, обратились в сторону Мекки, преклонили колени и творят молитву – искренны в своей благодарности Богу. Покончив с излиянием чувств, принялись варить кофе и готовить вечернюю трапезу. Воины давай состязаться в метании копий, а персы тут большие мастера. Жители ближних деревень спешат с дарами земли навстречу пирующим купцам, надеясь из самозабвенной радости их извлечь добрый барыш. Бойкие на язык рассказчики не умолкают всю ночь и ублажают слушателей сказками и небылицами. А прекрасные девушки танцуют и сводят с ума правоверных. Радуют душу не вещи вокруг нас, а то, как глядим на них.
5.2
Огромен базар в Багдаде, а с возвращением каравана из дальних краев, он становится воистину велик. Базар в Багдаде не просто купля, продажа и обмен, это – зрелище, спектакль, карнавал. Здесь товары со всего мира, и весь мир здесь. Платки Кашмира, шелка Сирии, слоновая кость и золото Африки, сокровища Египта, благовония Персии, пряности Аравии. Породистые лошади и сильные рабы, отороченные соболем плащи и подбитые горностаем мантии, военные доспехи и оружие, редкие звери и птицы, обезьяны с серебряными ошейниками, белые газели, попугаи, павлины, борзые собаки. Все страны, все исповедания, все языки тут. Вот турок, пышный и важный. Вот изящный, изысканный араб. Вот еврей в неизменной шапке, как всегда озабочен. Вот армянин-христианин, одетый в черное, спокоен и безмятежен. Вот персы, бойкие и шумные. Вот степенный черкес, и кольчуга на нем. Вот грузины, а с ними спорят купцы из Синары, что на Ниле.
Вроде бы нечем удивить базар багдадский, а все же можно встретить и там явление редкое. Необычная процессия движется вдоль бесконечных улиц-прилавков. Возглавляют ее двое слуг – мальчики в яркой красной одежде. У одного в руках бархатная сумка, другой несет скрепленный металлическими застежками фолиант в богатом переплете. Замыкают шествие четверо вооруженных стражников. Между слугами и охраной, восседая на белоснежном муле, едет роскошно одетый знатный господин. На вид средних лет, по-мужски красив. Темные большие глаза, орлиный нос, высокий лоб, некрупный рот, полные красные губы, белые ровные зубы, черная борода, кудри, усы. Казалось, природа красивого зверя потеснила человеческое в этом лице. Но проницательный взгляд его умных глаз заставлял думать иначе. На голове наездника алый тюрбан, на теле шитая серебром рубаха белого дамасского шелка, золотые нити щедро вплетены в турецкий шарф, бриллианты и рубины сверкают на рукояти и ножнах кинжала, самоцветные кольца на пальцах, жемчужины в ушах.
“Кто этот господин?” – шепотом спросил покупатель из Египта у купца, чей товар он разглядывал.
“Это сам Хонайн!” – ответил купец.
“И кто же он? Сын халифа?” – продолжил египтянин.
“Бери выше, это врач халифа!”
Белый мул остановился против прилавка, у которого велась беседа. Мальчики-слуги встали по обе стороны от хозяина, стражники сдерживали толпу любопытных.
“Почтенный купец, – заговорил господин Хонайн голосом сладким, как звук флейты, и улыбался при этом почтительно и снисходительно одновременно, – привез ли ты вещи, которые я желал?”
“Бог велик, а Магомет Пророк его на земле”, – сказал купец (а это был Али), – “Мне удалось добыть желаемое тобой. В Алеппо, у проклятого гяура я сторговал эти греческие манускрипты, мой господин”.
“Отлично! – воскликнул Хонайн, – и какова их стоимость?”
“Неверный потребовал с меня пятьсот драхм!” – выпалил Али.
“Ибрагим, проследи, чтобы купец получил тысячу”, – распорядился Хонайн.
“Премного благодарен, господин Хонайн!” – взвизгнул Али.
Врач халифа свысока кивнул в ответ.
“Продолжим путь, мальчики, в чем задержка? Ибрагим, позаботься, чтобы дорога была свободна. Что за волнение там?”
Толпа гудела. Чьи-то руки вытолкнули вперед юношу. Он выглядел изможденным, но упрямо сопротивлялся своим утеснителям.
“Кади, кади, волоките его к кади, пусть кади вершит суд!” – вопил один из толпы, ни кто иной, как Абдалла.
“Благородный господин!” – вскричал юноша, которому удалось высвободиться из жадных до правосудия рук, – “Я невиновен и оскорблен! Молю о помощи!” Он ухватился за полу одежды Хонайна.
“К кади его, к кади! – продолжал свое Абдалла, – этот вор украл у меня кольцо, свадебный подарок верной моей супруги Фатимы!”
Юноша цепко держался за край платья Хонайна – так потерпевший кораблекрушение не выпускает из рук спасительный обломок мачты. Он обессилил от борьбы и с надеждой и мольбой смотрел в глаза вельможи.
“Тихо! – провозгласил Хонайн, – толпа – не судья. Я разберу это дело”.
“Слушайте все, слушайте господина Хонайна!” – раздались голоса в толпе.
“Говори, крикун, в чем состоит твоя жалоба?” – обратился Хонайн к Абдалле.
“О, господин Хонайн! Я слуга твоего покорного слуги Али. Угождая ему, я усердствую порой и для тебя. Этот воришка, нищий, украл кольцо, пока я дремал, сидя в кофейне, и это могут доказать мои свидетели. Изумруд в кольце дорог сказочно, но для меня он бесценен, как дар Фатимы, и ни за какие сокровища я не уступлю кольца. Три честных человека подтвердят, как этот нищий, подавая мне кофе и, заметив, что я сплю, стянул кольцо с пальца моего и надел на свой. Битье палками по пяткам заставит его вернуть покражу”.
“Абдалла не только верный мой слуга, он побывал со мной в Мекке, совершил хадж, он хаджи!” – добавил весу словам Абдаллы хозяин его Али.
“Твоя очередь говорить, юноша”, – сказал Хонайн.
“Он плут, лжет, как все лакеи лгут!”
“Прошу быть кратким”, – прервал Хонайн.
“Негодяй, это меня ты называешь лакеем? – возопил Абдалла, – О, господин Хонайн! Я хаджи, я совершил паломничество в Мекку. Клянусь гробом Магомета, этот вор – еврей!”
Врач халифа слегка побледнел, закусил губу. Он готов был раскаяться в неосмотрительности: вступиться за иудея при всем честном народе! Но отступать поздно, и юношу жалко. И он спросил, откуда у того кольцо.
“Я получил кольцо от учителя, как знак благословенья на паломничество, которое еще не завершил. Есть некто в мире, кому готов отдать его, но человека этого пока не встретил. Нет у меня иного свидетеля, кроме правды. Я одинок и без друзей, но я не нищий и никогда не стану им. Немыслимые тяготы пути исчерпали силы и пошатнули дух. Я искал в кофейне угол, скрытый от глаз, чтобы забыться, возможно, умереть. А тут этот лакей – новая каверза судьбы. Не дано рабскому его уму понять, что для меня кольцо дороже жизни самой!”
“Покажи украшение”.
Юноша протянул Хонайну кольцо. Тот взял, ощутил биение пульса в дрожащей руке.
“О, моя Фатима!” – заголосил Абдалла.
“Позвать сюда ювелира!” – приказал вельможа.
Ожидая ювелира, Хонайн внимательно разглядывал красивый предмет, пытаясь разгадать секрет его значимости для юноши.
Подошел ювелир, поклонился Хонайну.
“Оцени эту вещь”, – тихо промолвил Хонайн.
Мастер взял кольцо, придирчиво рассмотрел его на свет, ощупал пальцами, попробовал языком, повертел так и сяк и, наконец, изрек: “Не меньше тысячи драхм цена ему”.
“Готов ли ты уступить мне эту вещь за такую цену?” – спросил Хонайн Абдаллу.
“О, да!” – сорвался с уст Абдаллы мгновенный ответ прежде, чем он успел подумать, и глаза его загорелись.
“А ты, незадачливый паломник, если тяжба решится в твою пользу, возьмешь за кольцо двойную цену?”
“Мой господин, я говорю чистую правду. Я не могу расстаться с кольцом. Даже за дворец халифа!”
“Итак, на сей раз справедливость торжествует! – ликуя, воскликнул Хонайн, – Юноша, вещь принадлежит тебе. А ты, жадный лгун и негодяй, – продолжил вельможа, повернувшись к Абдалле, – получишь то, что прочил оклеветанному тобой. Ибрагим, побеспокойся, чтобы пятьсот палочных ударов по пяткам достались ему сполна. Ты же больше не одинок”, – вновь обратился Хонайн к юноше, – и у тебя есть друзья. Следуй за мной в мой дворец”.
5.3
Большой сводчатый зал впечатлял совершенством архитектурных пропорций и форм. Потолок, украшенный лепниной и тысячей серебряных звезд, покоился на изумительно стройных колоннах, отделанных белым и зеленым мрамором. Тех же тонов орнаменты мозаики расцвечивали пол. В центре зала из порфировой чаши бил фонтан. Среди великолепия этого богатства стоял изящный диван, принявший в мягчайшую свою глубину тело восседавшего на нем хозяина.
Хонайн оторвался от долгого чтения, отложил в сторону фолиант. Хлопнул в ладоши. Вошел нубийский раб, сложил руки на груди, согнулся в поклоне.
“Аналшар, как чувствует себя наш гость-иудей?”
“Жара нет больше, господин. Мы дали ему снадобье. Он очень долго спит, слаб, но поправляется”.
“Пусть пробуждается, я жду его”.
Поклонившись, нубиец вышел.
“Симпатия – странная вещь, и разум мой объяснения ей не находит, – рассуждает сам с собой Хонайн, и лицо его глубокомысленно, – хоть и простое, чувство это не минует и меня, человека просвещенного, врача халифа”. Он продолжает размышлять о другом. “Дух учености в нем, красноречив, и перо бойкое. Но слишком схоластичен, а это мне не по нутру. Опыт учит большему, чем догма, он же убеждает в правоте сей мысли, а также в том, что и сам не совершенен. Есть многое, что доселе не ведомо уму, хоть кажется порой, что просто это – заглянуть за занавес природы”. Послышались шаги. “Вот идет мой пациент. Он бледен. В глазах его страсть и дума вместе. Симпатия – вещь странная”.
“Юный чужеземец, ты здоров?”
“Вполне, мой господин. Благодарю тебя за доброту, но лишь словами могу подкрепить слова признательности. Однако благодарность из уст сироты зачтется”.
“Ты сирота?”
“У меня нет родителей, кроме Бога отцов моих”.
“И Бог этот…”
“Бог Израиля”.
“Так я и думал. Мы допускаем, что Он есть творец, и что наш долг – поклоняться Ему”.
“Он наверху, мы, люди, внизу копошимся, но веры преисполнены”.
“В вере – сила”.
“Согласен. Добавлю: сила торжествует”.
“Звучит пророчески”.
“Пророчествами пренебрегают, но время открывает их боговдохновенность”.
“Ты молод и оптимистичен”.
“Таким же был мой великий предок, сразивший Голиафа в долине Эйла. Впрочем, едва ли это интересно мусульманину”.
“Я читал об этом и понимаю тебя вполне. Что до моей веры, так скажу: я поклоняюсь истине и желаю побольше единомышленников. С опозданием спрошу имя моего юного гостя”.
“Меня зовут Давид”.
“На изумруде, что в твоем кольце, есть надпись. Иврит, я полагаю”.
“Вот кольцо”.
“Прекрасный камень, и буквы означают…”
“Означают: “Один из двух ушел”, – памятка братской любви.
“Твой брат?”
“У меня никогда не было брата”.
“Давид, прошу, исполни мой каприз, сыщи в доме вещь, ценностью равную сему кольцу”.
“Это излишне, благородный господин. Самоцвет не велик в цене, но даже если бы он был достоин украсить голову халифа, то и тогда явился б слишком ничтожной расплатой за доброту твою. В нем надежды больше, чем достояния. Кажется невероятным, но даже тебе, спасшему меня, я не вправе предлагать его, ибо всякую минуту может явиться тот, кто заявит на кольцо свои законные права”.
“И кто же этот человек?”
“Брат вручившего мне кольцо”.
“Брат Джабастера?”
“Это ты?”
“Да. Я тот самый один из двух, что ушел”.
“Велик Бог Израиля! Бери кольцо! Однако, что я вижу? Брат Джабастера – вельможа и мусульманин? О, молю тебя, скажи, что ты не принял их недостойное исповедание и не стал вероотступником! И я благословлю этот час!”
“Успокойся, юноша. Я сказался атеистом. Беседу на темы отвлеченные, о вере, скажем, отложим. Есть дела насущные. Что сталось с моим братом? Он жив, он счастлив?”
“Он верой жив и благочестьем счастлив”.
“Неисправимый мечтатель! Его взгляды разнились с моими, что не мешало мне любить его. А ты? Ведь ты не тот, кем хочешь казаться. Не таясь, расскажи мне все. У Джабастера не будет друг простак. В облике твоем приметы славы. Доверяй мне”.
“Я – Алрой”.
“Что? Предводитель изгнания?”
“Да, это я”.
“Ты убил Алчирока?”
“О, как быстры слухи!”
“Моя симпатия имела основания. Я сразу полюбил тебя. Что ты ищешь в нашем краю? За твою голову назначена награда. Знаешь об этом?”
“Впервые слышу. Я не встревожен. Посланничество Бога меня хранит”.
“В чем состоит оно?”
“Освободить Его народ!”
“Ученик Джабастера и жертва его химер. Я должен тебя спасти. Для начала: твое имя никому в городе не положено знать. А сейчас выйдем на террасу, насладимся закатом и свежим ветром”.
5.4
“Который час, Давид?”
“Скоро полночь. Любопытно, прочитал ли твой брат по звездам о нашей счастливой встрече?”
“Звезды догадливы, своим движеньем и расположеньем напишут то, что людям прочесть желаемо”.
“Желания наши спускаются с небес, где обитают звезды”.
“Из кирпичей желаний мы сами мостим путь нашей жизни, но почему-то называем его судьбой”.
“О новом пути и о судьбе мне был голос, что прежде возникал в святая святых, раздавался из-за занавеса ковчега завета”.
“Чрезмерная фантазия размягчает веру”.
“Моя вера, как скала тверда!”
“Со скалы, не ровен час, сорвешься вниз…”
“Ты саддукей? Ты думаешь не Бог, но сам человек собою правит?”
“Я человек, который знает людей”.
“Ты учен, но иначе, нежели Джабастер”.
“С Джабастером мы различны и вместе с тем едины, как ночь и день – неразделимые части суток”.
“И твоя часть…”
“Истина”.
“Это – свет”.
“Когда слишком ярок, он чреват ослепленьем и темнотой в глазах”.
“Двух этих вещей мы все должны остерегаться”.
“Ты молод”.
“Молодость порок?”
“Наоборот. Однако нельзя срывать плод, покуда дерево в цвету”.
“Какой плод?”
“Знание”.
“Я учился”.
“Чему?”
“Тайным вещам”.
“Почему ты называешь их тайными?”
“Они даны нам Богом”.
“Таковы все вещи в мире. Все тайные они?”
“Те, что воплощают Его волю”.
“Так думает Джабастер, но ни один из прихожан мечети не согласится с ним”.
“Все же ты мусульманин?”
“Нет”.
“Кто же?”
“Сказал уже: я – человек”.
“Однако кому ты поклоняешься?”
“Что такое поклонение?”
“Это то, чем творение обязано творцу”.
“Кто он, творец?”
“Наш Бог”.
“Бог Израиля?”
“Да”.
“Крошечный народ, что курит фимиам сам себе!”
“Мы – избранный народ!”
“Избранный для осмеяния, презрения, бесславия. Кого прельстит избранничество?”
“Которым мы, увы, не прониклись и пренебрегли”.
“Почему?”
“Тебе известны анналы священного племени нашего”.
“Да, известны. Как и у всех племен: кровь и зло”.
“Я вижу другое: былые победы, скорое спасение и будущая слава”.
“Добраться до берега спасения – моря крови переплыть. Бедный мессия!”
“Ты и вправду брат Джабастера?”
“Так говорила наша мать, святая женщина”.
“Господин Хонайн, ты богат, силен, умен. Ты восхваляем и купаешься в довольстве. К чести твоей замечу, что, став вероотступником, веру не сменил. Ты в согласии с миром, и им любим. Теперь вообрази иное бытие. Достойного лишь терпят. Насмешки и проклятья за спиной. Брезгают, как прокаженным. Как ни хорош – хорош не будешь. Самодовольство и золото не замещают чести. Пустота и обреченность впереди. Возможно ль примирить в душе реальность эту с сознанием избранничества и превосходства? Нет и нет! Господин Хонайн, объяснил ли я свой порыв к борьбе, свободе и величию?”
“Почтенный, прошу прощенья за ошибку. Я думал, ты ученик Джабастера, но вижу, амбиции твои простираются куда как дальше!”
“Я – Предводитель, и оковы – не к лицу мне!”
“А теперь, Алрой, слушай меня, – сказал Хонайн, тепло обняв юношу за плечи, – я друг и рачитель твой. Выручил из беды, от болезни исцелил, окружил заботой, дал безопасность и крышу над головой. Чувства не во власти человека, и краткость нашего знакомства не помешала мне полюбить тебя. Ты должен доверять мне, как я – тебе. Ты знаешь мою тайну: я иудей, один из сынов презираемого, отверженного, гонимого народа, над коим ты Предводитель. Прекрасно быть свободным, не меняя кожу. Но эфемерности я достижимость предпочел. Я сам себе явился мессией. Спроси Джабастера, сколь тяжек был путь борьбы моей, которая лишь юному под силу. Годы я жил один в Константинополе, среди греков, учился врачевать. Переселился потом в Багдад, весьма искусным лекарем ставши, а такой – почти всегда незаменим. Надел тюрбан, и вот, я – господин Хонайн! Мой мальчик, будь благоразумен, не отвергай совет и опыт друга. Я представлю тебя, как сына от некоей красавицы-гречанки. Время и весь мир – перед тобой. Наслажденья жизни – война, любовь, богатство – выбирай, иль все бери. С моею помощью, с твоим умом и честолюбьем ты станешь главным визирем. Да что там визирем! В смутную годину нашу ты собственное сумеешь царство обрести, что счастьем и богатством расцветет не в пример Земле Обетованной. Я был там – бесплодность и безлюдье, пустыня, недостойная тебя!”



