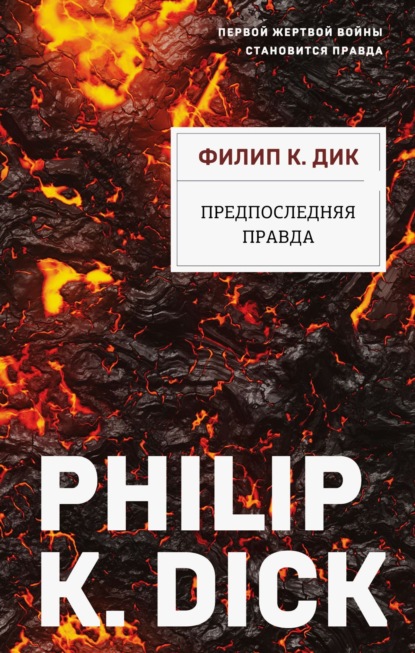
Полная версия:
Предпоследняя правда
Из соседней ячейки донесся визгливый голос его жены Эди:
– Мы сегодня первые в ванную, Ник; твоя жена вчера вечером заняла ее на целый час со своим душем. Так что подожди, пожалуйста.
Сдавшись, он захлопнул дверь в ванную и побрел в кухню – которую они ни с кем не делили, ни справа, ни слева, – и поставил кофе на плиту. Кофе был вчерашний; у Николаса не было сил заваривать свежий, да и синтетических кофейных зерен уже почти не оставалось. До конца месяца они точно исчерпают все свои запасы, и придется клянчить, выменивать или брать взаймы у соседей, предлагая свой рацион сахара – они с Ритой, к счастью, мало его употребляли – в обмен на странные маленькие и коричневые эрзац-зерна.
А уж настоящих кофейных зерен, подумал он, я мог бы употребить сколько угодно. Если бы они существовали. Но, как и все остальное, зерна синтекофе (так они числились в накладных) были жестко нормированы. За все прошедшие годы его разум смирился с этим. Но тело требовало еще.
Он все еще помнил вкус настоящего кофе – с прежних времен, до убежища. Мне было девятнадцать, подумал он; я был первокурсником в колледже и только начал пить кофе вместо детских молочных коктейлей. Я только-только начал становиться взрослым… и тут все это случилось.
Но, как сказал бы Тэлбот Янси, улыбаясь или хмурясь, как посчитал бы правильным:
– Как минимум нас не сожгло, чего мы все опасались. Потому что у нас и правда был целый год, чтобы спрятаться под землю, и это нельзя забывать.
Вот Николас и не забывал; разогревая вчерашний синтекофе, он думал о том, что мог сгореть пятнадцать лет назад или холинэстераза в его теле распалась бы от жуткого американского нервно-паралитического газа, худшего из всего, что на тот момент придумали идиоты на высоких постах, там, где был когда-то Вашингтон, округ Колумбия, сами снабженные антидотом, атропином и потому находящиеся в безопасности… в безопасности от газа, что выпускался в Ньюпорте, в западной Индиане, на тамошнем химическом заводе по контракту с печально известной корпорацией FMC, но не от советских ракет. И он ценил этот факт и благодарил за то, что жив и может пить здесь этот синтекофе, каким бы горьким он ни был.
Дверь ванной открылась, и послышался голос Стю:
– Я закончил!
Николас двинулся в ванную. И тут раздался стук во входную дверь ячейки.
Склоняясь перед обязанностями, что налагала его выборная должность, Николас открыл дверь, и перед ним предстал – он сразу это понял – комитет. Йоргенсон, Холлер, Фландерс – снова у его дверей местные активисты, а за ними Питерсон, и Гранди, и Мартино, и Джиллер, и Кристенсон; их группа поддержки. Он вздохнул. И позволил им войти.
Бесшумно – у них хватило на это ума и такта – делегация втянулась в его ячейку, заполнив ее. Как только входная дверь закрылась, Йоргенсон сказал:
– Вот как мы собираемся решить этот вопрос, президент. Мы сегодня до четырех утра спорили насчет него, – говорил он негромко, но твердо и решительно.
– Спорили насчет чего? – спросил Николас. Но он знал ответ заранее.
– Мы разберемся с этим политкомиссаром, этим Нуньесом. На двадцатом уровне мы инсценируем драку; доступ на двадцатый затруднен, там неудачно сложены ящики с деталями лиди. Ему понадобится полчаса, чтобы остановить драку. И это даст вам время. То время, которое вам нужно.
– Кофе? – спросил Николас, возвращаясь на кухню.
– Сегодня, – сказал Йоргенсон.
Не отвечая, Николас пил свой кофе. И жалел о том, что не находится в ванной. Как бы он хотел закрыться там от всех – жены, брата, его жены и этого комитета. Чтобы никто его там не достал. Даже Кэрол, подумал он. Так хотелось бы – хотя бы на минуту – закрыться от всех них. И просто сидеть в одиночестве и тишине ванной; просто существовать.
И тогда, если бы ему дали просто посидеть спокойно, возможно, он смог бы и подумать. Найти себя. Не Николаса Сент-Джеймса, президента убежища «Том Микс», антисептического танка, но себя самого, человека и мужчину. И тогда он бы знал, знал наверняка, прав ли комиссар Нуньес и закон есть закон. Или все же права Кэрол Тай, и действительно происходит что-то непонятное или неправильное – на что бы она ни наткнулась со своей коллекцией записей речей Янси за последний год. Ку-де-грас, удар милосердия, подумал он. Вот и он, прямо тут, для меня, смертельный удар по голове.
Он повернулся, не выпуская из руки чашку с кофе, чтобы взглянуть на активистов.
– Сегодня, – сказал он, передразнивая Йоргенсона, которого откровенно недолюбливал; Йоргенсон был краснорожий крепкий тип, любитель пива с сухариками.
– Мы знаем, что нужно торопиться, – взял слово Холлер; он говорил тихо, и его явно нервировало присутствие Риты, что причесывалась у зеркала, – да и все заговорщики вели себя нервно. Конечно, они боялись полицейского, то есть политкомиссара. И все же они пришли сюда.
– Давайте я объясню вам ситуацию с искусственными органами, – начал Николас, но Фландерс перебил его тут же:
– Мы знаем все, что нужно знать. Все, что мы хотим знать. Слушайте, президент; мы знаем о заговоре, что они состряпали. – Все прибывшие – шестеро или семеро – глядели на него с тревогой, со злобой и раздражением; крохотная – или, точнее, стандартная – ячейка, в которой жил и сейчас стоял Николас, буквально переполнилась эмоциями гостей.
– Кто – «они»? – спросил он.
– Большие шишки из Эстес-парка, – ответил Йоргенсон. – Те, что всем рулят. Указывают своим микроскопическим подручным вроде Нуньеса, в кого ткнуть пальцем.
– А заговор-то в чем?
– Заговор, – сказал Фландерс, почти заикаясь от своей предельной напряженности, – заключается в том, что им не хватает продовольствия и им нужен повод, чтобы разогнать какие-то из убежищ; мы не знаем, сколько именно они хотят закрыть и выгнать танкеров на поверхность, на верную смерть – может быть, много убежищ, а может быть, всего несколько… это зависит от того, насколько их припекло с рационами.
– Так вот, смотрите, – просительно сказал Холлер Николасу (сказал в полный голос, но сосед тут же чувствительно толкнул его, и он понизил голос до шепота), – им нужен повод. И они его получат, как только мы не выполним план, нашу ежемесячную квоту по выпуску лиди. А вчера вечером, после кадров погибающего Детройта, когда Янси объявил о том, что квоты повысятся, – вот так мы это и вычислили; они планируют поднять квоты, и все танки, что не выполнят новые нормы, будут закрыты. Вроде нас. А там, наверху… – Он ткнул пальцем в потолок. – Мы все умрем.
Рита грубо откликнулась от своего зеркала:
– Точно так же и Николас умрет, когда отправится за этим артифоргом – вы же все этого хотите.
Резко обернувшись, Холлер ответил:
– Миссис Сент-Джеймс, он наш президент; мы выбрали его – и вот именно поэтому выбрали, чтобы он – ну, вы понимаете. Помог нам.
– Ник не ваш отец, – огрызнулась Рита. – И не волшебник. И не колесико в правительстве Эстес-парка. Он не может сам изготовить искусственную поджелудочную. Он не может…
– Вот деньги, – сказал Йоргенсон. И сунул Николасу пухлый белый конверт. – Здесь полусотенные, ЗапДем-доллары. Сорок штук. Двадцать тысяч ЗапДем-долларов. Сегодня ночью, пока Нуньес сладко спал, мы прошли по всем ячейкам и собрали это. Это были зарплаты половины танка за… – Он не мог сосчитать, момент был слишком напряженным. Но за долгое, долгое время. Комитет поработал на славу.
Рита обратилась к заговорщикам, резко и неприязненно:
– Вот сами и делайте это, раз уж вы собрали деньги. Бросьте жребий. Не втягивайте моего мужа в это. – Ее голос слегка смягчился: – Нуньес вряд ли быстро заметит отсутствие кого-то из вас. Может быть, даже несколько дней пройдет, пока он догадается проверить; но как только Ник исчезнет, Нуньес заметит сразу, и…
– И что, миссис Сент-Джеймс? – Холлер выбрал вежливый, но решительный тон. – Нуньес ничего не сможет сделать, пока президент Сент-Джеймс будет на поверхности.
– Когда он вернется, Джек, – ответила Рита. – Тогда Нуньес его казнит.
Хуже всего то, что, вероятней всего, я даже не вернусь, подумал Николас.
Йоргенсон с явной, очевидной неохотой полез в карман своего рабочего комбинезона и достал небольшой плоский предмет, смахивающий на портсигар.
– Мистер президент, – сказал он формально и с достоинством, будто официальный глашатай, – вы знаете, что это такое?
А как же, подумал Николас. Это бомба, сработанная в мастерских. И если я не пойду, причем именно сегодня, вы вмонтируете ее где-то здесь, в моей ячейке или в моем офисе, поставите на нее взрыватель часового типа или проводное управление, и она взорвется и разнесет меня на куски, а заодно, вероятно, мою жену и даже, возможно, моего младшего брата и его жену, или кто там будет из посетителей на тот момент, если это будет мой офис. А вы все, ребята, – достаточно многие из вас как минимум – как раз электрики, профессионалы по монтажу и сборке, как и все мы тут в какой-то степени… и вы знаете, как сделать правильно, чтобы вероятность успеха была стопроцентной. И вот, выходит так, осознал он, если я не пойду наверх, то ваш комитет абсолютно точно уничтожит меня – плюс еще, возможно, невинных людей рядом, – а если я пойду, то Нуньесу обязательно шепнет какая-нибудь сволочь из полутора тысяч обитателей танка, и тот пристрелит меня на полдороге наверх; я даже не успею совершить свой незаконный – а в военное время действует военное положение – выход на поверхность.
– Послушайте, президент, – сказал Фландерс, – я знаю, вы полагаете – вам придется подниматься вверх по шахте, а у выхода из нее все или почти все время пасутся лиди с очередным поврежденным собратом, чтобы скинуть его нам… но послушайте.
Туннель, понял Николас.
– Да. Мы пробурили его сегодня рано утром, когда подъехала автоматическая зарядная станция, чтобы замаскировать звук бура и других инструментов, что нам пришлось использовать. Он абсолютно вертикальный. Шедевр.
– Он начинается в потолке комнаты BAA на первом уровне, – сказал Йоргенсон, – это склад коробок передач для лиди типа два. По нему идет цепь, и она закреплена – надежно, я гарантирую, я клянусь! – на поверхности, спрятанная среди…
– Лжи, – сказал Николас.
Йоргенсон заморгал.
– Не, честно…
– За два часа вы не могли пробурить вертикальный туннель до поверхности. Скажите правду.
После длинной и унылой паузы Фландерс пробормотал:
– Ну, мы начали этот туннель. И прошли метров двенадцать. Мобильный ковш остался там, закреплен. Рассчитывали отправить вас туда с кислородным оборудованием, а потом запечатать его снизу, чтобы заглушить вибрации и шум.
– Получается, – сказал Николас, – я поселюсь в этом туннеле и буду копать, пока не выберусь наверх. И вы наверняка рассчитали, сколько времени это у меня займет – в одиночку и с маленьким ручным ковшом, без тяжелого оборудования?
После паузы кто-то из членов комитета пробурчал:
– Два дня. У нас заготовлены пища и вода, а точнее, один из тех автономных космических костюмов, что использовались при полетах на Марс. Перерабатывает все отходы жизнедеятельности, выдыхаемый воздух – все. Это все равно лучше, чем пытаться пробиться вверх по шахте, которую точно патрулируют наверху лиди.
– А внизу, – сказал Николас, – Нуньес.
– Нуньес будет разнимать драку на двадцатом…
– Окей, – сказал Николас. – Я это сделаю.
Все буквально вытаращились на него.
Рита едва слышно всхлипнула; это был крик отчаяния.
Николас обратился к ней:
– Это лучше, чем если нас разнесут вдребезги. А они сделали бы это. – Он указал на маленький плоский предмет в руках у Йоргенсона. Ipse dixit, подумал он. Настолько я все же знаю иностранные языки. Утверждение, не требующее доказательства, «он так сказал». И в этом конкретном случае я бы не хотел видеть доказательства; даже наш политкомиссар Нуньес пришел бы в ужас от того, что может сделать эта штуковина, когда взорвется.
Он вошел в ванную, захлопнув – и закрыв на замок дверь за собой. Ради этого, сколь угодно краткого, момента тишины. Ради того, чтобы побыть простым биохимическим организмом, а не президентом Сент-Джеймсом, президентом подземного антисептического убежища-общежития, «танка», под названием «Том Микс», основанного в июне 2010 года во время Третьей мировой войны. 2010 года от Рождества Господня, подумал он; чертовски позднее время пополудни – После Христа.
Что мне надо сделать, решил он, так это вернуться, но не с артифоргом, а с Пакетной чумой для всех вас. Для каждого, без исключения.
Его злоба поразила даже его самого. Но, конечно, она была лишь поверхностной. Потому что, и он понял это, включая горячую воду, чтобы побриться, реальность такова, что я запуган. У меня нет никакого желания вкалывать сорок восемь часов в этом вертикальном туннеле, ожидая услышать, как Нуньес проламывает затычку внизу или как отряд полицейских Броуза сверху нацеливается на звук моего ковша; и даже если этого не произойдет, то все равно выбраться наверх в радиоактивность, в руины, в войну. В ту моровую язву смерти, от который мы бежали, спрятались. Я не хочу подниматься на поверхность, даже по неотложному делу.
Он презирал себя за это; до такой степени, что даже глядеть на себя в зеркало, намыливая щеки, было очень трудно. Невозможно. Поэтому он открыл дверь ванной со стороны Стю и Эди и громко спросил:
– Эй, я могу воспользоваться вашей электробритвой?
– Не вопрос, – ответил его младший брат и достал требуемое.
– В чем дело, Ник? – спросила Эди с необычным – для нее – сочувствием. – Господи боже, ты выглядишь просто ужасно.
– Я ужасен, – ответил Николас и уселся на их неубранную измятую постель, чтобы побриться. – Чтобы я сделал правильное дело, – непонятно объяснил он, – меня надо заставлять силой. – Больше ему объяснять совсем не хотелось; он брился замкнуто и молчаливо.
5
Над зеленью – над полями, лугами, открытым миром североамериканских лесов с редкими вкраплениями жилых домов, поместий в странных и непредсказуемых местах – Джозеф Адамс летел на флэппле из своей собственной усадьбы на тихоокеанском побережье, где он был доминусом, в Нью-Йорк, где он был одним Янси-мэном из многих. Его рабочий день, его долгожданный и наконец выстраданный понедельник, настал.
Рядом с ним на сиденье лежал кожаный портфель с его золотыми инициалами, и в том – написанная вручную речь. Сзади, сгрудившись на заднем сиденье, находились четверо лиди из его личной свиты.
По дороге он болтал по видеофону о работе с коллегой по Агентству Верном Линдбломом. Верн не был генератором идей, не был человеком текста – но, как художник в визуальном смысле, мог гораздо лучше Адамса понять, уловить, какую сцену имеет в виду их начальник в Москве, Эрнест Айзенбладт; что он хочет увидеть в студии.
– Следующим будет Сан-Франциско, – сказал Линдблом. – Я сейчас его строю.
– В каком масштабе?
– Без масштаба.
– В натуральную величину? – поразился Адамс. – И Броуз дал добро на это? То есть это не просто очередная легкомысленно-гениальная креативная идея Айзенбладта…
– Лишь фрагмент. Ноб-Хилл и вид на залив. Не торопясь, за месяц построим. Они только вчера вечером прогнали эту тему с Детройтом, времени полно.
Линдблом выглядел вполне расслабленно. Будучи профессиональным ремесленником, он мог себе это позволить. Генераторы идей шли по четверти посткредита за дюжину, но реальные исполнители – о, они были закрытой гильдией, которую даже Броуз со всеми своими агентами не смог взломать. Словно гильдия стеклодувов где-нибудь во Франции в тринадцатом веке – исчезни они, и секрет красного стекла исчезнет вместе с ними.
– Хочешь послушать мою новую речь?
– Ни за какие коврижки, – добродушно отозвался Линдблом.
– Ручная работа, – смиренно доложил Адамс. – Я вышвырнул этот прибор; одни шаблоны.
– Слушай, – сказал Линдблом, внезапно посерьезнев. – До меня тут дошли слухи… Тебя снимают с речей и отправляют на спецпроект. Не спрашивай какой; мой источник сам не знал. – И после паузы добавил: – У меня информация от сотрудника Фута.
– Хмм. – Он попытался выглядеть спокойным, изобразить хладнокровие. Но внутри его всерьез замутило. Безусловно – поскольку имело приоритет над его обычной работой, – это назначение происходило из бюро Броуза. А в самом Броузе и в его спецпроектах было нечто отталкивающее. Но вот что именно…
– Тебе должно понравиться, – сказал Линдблом. – Что-то насчет археологии.
Адамс усмехнулся.
– Понятно. Советские ракеты собираются разрушить Карфаген.
– А тебе предстоит запрограммировать Гектора, Приама и всех этих ребят. Доставай своего Софокла. Свои шпаргалки, подсказки или что у тебя там.
– Друзья мои, – изобразил Адамс серьезный и торжественный тон. – У меня нерадостные новости для вас, но мы все равно победим. Новая советская межконтинентальная баллистическая ракета «Гардеробщица А-3» с боеголовкой типа С рассеяла радиоактивную поваренную соль на территории в пятьдесят квадратных миль вокруг Карфагена, но это лишь показывает нам… – Он призадумался. – Что у нас производили автоматические фабрики Карфагена? Вазы? – В любом случае дальше уже была работа Линдблома. Выставка фотографий, которую отсканирует многолинзовая система телекамер в невероятно огромных и запутанных – и заполненных абсолютно любым возможным реквизитом – павильонах московской студии Айзенбладта. – Вот, мои дорогие друзья и сограждане, вот и все, что осталось; но генерал Хольт только что доложил мне, что наш удар возмездия с использованием нового наступательного оружия устрашения, игрушечного ружья «Полифем X-B», полностью уничтожил весь военный флот Афин, и с божьей помощью мы…
– Знаешь, – задумчиво сказал Линдблом из крохотного спикера бортовой видеосвязи. – Если бы кто-то из людей Броуза подслушивал наш разговор, то ты выглядел бы исключительно бледно.
Словно жидкое серебро, огромная река под ним запетляла с севера на юг, и Адамс наклонился, чтобы взглянуть на Миссисипи и оценить ее красоту. Это не было делом рук восстановительных бригад; под утренним солнцем блестел один из элементов первозданного творения. Того исходного мира, который не нужно было воссоздавать или реконструировать, потому что он никуда и не уходил. Вид этот, так же как и вид Тихого океана, всегда приводил его в чувство, отрезвлял, ибо означал, что нечто оказалось сильнее; нечто смогло выстоять.
– Да и пусть мониторят, – сказал Адамс, полный бодрости; он черпал силу из вьющейся серебряной полоски под ним – достаточно силы, чтобы сбросить вызов и отключить видеосвязь. Просто на случай того, что Броуз и впрямь подслушивал.
А потом, уже за Миссисипи, он увидел некое сосредоточение созданных человеком вертикальных и крепких строений и вновь испытал странное ощущение. Потому что это были гигантские озимандийские[2] жилые дома, возведенные неустанным строителем Луисом Рансиблом. Той состоящей из одного человека муравьиной армией, что на своем пути не сгрызала все своими челюстями, но, напротив, множеством своих металлических рук строила повсюду одну и ту же исполинскую жилую структуру – с детскими площадками, плавательными бассейнами, столами для пинг-понга и мишенями для дартса.
И познаете истину, подумал Адамс, и истина даст вам власть порабощать. Или, как сказал бы об этом Янси, «Друзья мои, американцы. Здесь передо мной сейчас лежит документ столь священный и судьбоносный, что я собираюсь просить вас…» И так далее. А вот теперь он почувствовал себя уставшим, а ведь он еще даже не добрался до Пятой авеню в Нью-Йорке, до Агентства, не начал свой рабочий день. В одиночестве, в своем поместье над океаном, он чувствовал, как вьющийся, словно водоросли, туман одиночества растет днем и ночью, забивая глотку, не давая сказать ни слова; здесь же, в пути через возрожденные и пока еще не возрожденные (но, господи, вот уже скоро!) области – и, конечно, все еще горячие точки, что встречались время от времени на его маршруте, словно лишайные круги, – он чувствовал этот неловкий стыд. Стыд тлел в нем, но не потому, что восстановление было злом, но – это было злом, и он знал, кем и чем это было.
Как было бы хорошо, если бы осталась одна-единственная ракета, сказал он себе. На орбите. И чтобы мы могли нажать одну из тех причудливых старинных кнопок, что были тогда в распоряжении генералов, и чтобы эта ракета сказала фуууууум! Прямо по Женеве. Прямо по Стэнтону Броузу.
Господи боже, подумал Адамс, может быть, в один прекрасный день я запрограммирую компьютер не на речь, даже на такую хорошую, что лежит тут рядом со мной, что я все же выдал вчера вечером, а на самое простое и спокойное объявление о том, что на самом деле происходит. И я прорвусь через компьютер в сам симулякр, а потом на аудио- и видеозапись, потому что он ведь автономный и редактуры там нет, разве что Айзенбладт вдруг заглянет случайно ко мне… и даже он, технически, не имеет права изменять речь на аудиозаписи.
И вот тогда небо рухнет на землю.
Должно быть, будет очень интересно наблюдать, размечтался Адамс. Если ты успеешь удрать достаточно далеко, чтобы посмотреть.
– Слушайте, – ввел бы он в программу Мегавака 6-V. И тогда внутри у компьютера закрутились бы все эти его маленькие хитрые причиндалы, и изо рта симулякра прозвучало бы именно это – но в трансформированном виде; простое слово обрело бы ту тонкую, подтверждающую детализацию, которая придала бы правдоподобие тому, что было бы иначе – давайте посмотрим правде в глаза, подумал он ядовито, – невероятно наглой и неубедительной историей. То, что вошло бы в Мегавак 6-V как обычное слово, логос, явилось бы перед телекамерами и микрофонами замаскированным под заявление, причем такое, которому никто в здравом уме – особенно находясь в подземном заточении пятнадцать лет – не осмелился бы не поверить. И это стало бы парадоксом, поскольку сам Янси освятил бы это заявление; как в старом софизме «Все, что я говорю, есть ложь», оно само противоречило бы себе, завязалось бы, гибкое и скользкое, в добрый и тугой морской узел.
Но чего этим можно будет добиться? Поскольку, само собой, Женева немедленно опровергнет это… и нам это совсем не нравится, услышал Джозеф Адамс внутренний голос, тот голос, который он наравне с другими Янси-мэнами давным-давно впустил внутрь себя. Супер-эго, как называли это довоенные интеллектуалы, а до этого – укусами внутренней вины или каким-то иным старинным и наивным средневековым термином.
Совесть.
Стэнтон Броуз, забившийся в свой Festung, в подобную замку крепость в Женеве, словно некий алхимик в остроконечной шляпе, что, по поговорке, «могуч и вонюч», словно гниющая и разлагающаяся, бледно-светящаяся морская рыба, мертвая макрель с затуманенными будто глаукомой глазами… но выглядел ли Броуз так на самом деле?
Лишь дважды в своей жизни он, Джозеф Адамс, реально видел Броуза во плоти. Броуз был стар. Сколько там ему, восемьдесят два? Но отнюдь не хрупок. Не жердь, обмотанная лентами высушенной, выдубленной плоти; в свои восемьдесят два Броуз весил тонну, перекатывался и колыхался, качался будто корабль на волнах, изо рта у него текло и из носа тоже… и все же его сердце билось, поскольку, само собой, было артифорг-сердцем, плюс артифорг-селезенка и артифорг-и-так-далее.
И тем не менее настоящий Броуз существовал. Потому что его мозг был не искусственным – таких просто не было; изготовить артифорг-мозг – сделать это тогда, еще до войны, когда существовала та фирма из Финикса, «Арти-Ган Корпорейшн», – означало бы ввязаться в то, что Адамс любил про себя называть «торговлей неподдельным имитированным серебром»… используя личный термин для того, что он считал хоть и недавней, но значимой реалией в панораме бытия и ее многочисленного и разнообразного потомства: всей вселенной аутентичных фейков.
И эта вселенная, подумал он, в которую, казалось бы, можно зайти всего на пару минут, войти через вход и выйти через выход… эта вселенная, словно кучи реквизита в московской студии Айзенбладта, была бесконечной, тянулась комната за комнатой; и выход из одной комнаты был всего лишь входом в следующую.
И теперь, если верить Верну Линдблому, если верить его источнику из частной разведслужбы «Уэбстер Фут, Лимитед оф Лондон», открылась некая новая входная дверь, и открыла ее рука, при всей своей старческой дрожи дотянувшаяся из Женевы… в мозгу Адамса эта метафора выросла и визуализировалась, стала пугающе осязаемой; он буквально почувствовал дверной проем впереди, ощутил дыхание тьмы, исходящее из него – из лишенной света комнаты, в которую он вскоре войдет, столкнувшись с бог весть какой задачей, что все же не будет кошмаром, таким как эти черные равнодушные туманы внутри него и снаружи, бесформенные, но…
Но слишком явственные. По буквам продиктованные, записанные словами, не допускающими двоякого толкования, в служебной записке, исходящей из этого проклятого логова чудовищ, Женевы. Генерал Хольт, да даже маршал Харензани, который все-таки был офицером Красной армии, а уж никак не нюхающим цветочки эстетом, даже Харензани иногда слушал. Но эта еле ползущая, слюнявая, закатывающая глаза старая туша, битком забитая артифоргами – Броуз жадно поглощал артифорг за артифоргом из крохотных и тающих мировых запасов, – у этой туши просто не было ушей.



