
Полная версия:
Сказки печали и радости
Больше сердцем, чем душой, она увидела, как Финистов опустился перед стулом на колено и запрокинул голову. Он завороженно, потрясенно разглядывал плачущую Марию, а затем осторожно указательным пальцем стер слезинки с ее щек. И тут случилась четвертая, последняя странность: стекло перед Василисой треснуло и осыпалось. Парочка, выглядевшая влюбленной, одновременно обернулась. Затуманенный взгляд Финистова стал проясняться.
– Нет-нет-нет, – в отчаянии прошептала Мария и потянулась к нему. – Проснись. Прошу, увидь меня!
Можно сказать, что пришло время пятой странности, но, если смотреть трезво, то была не странность, а закономерный итог. По комнате разнесся полный боли мужской крик. Финистов сложился пополам, правой рукой прикрывая глаз. Меж пальцев его сочилась кровь.
Сергей молниеносно оказался рядом с Марией и, ухватив ее за запястье, хорошенько тряхнул. Василиса торопливо водрузила очки на нос и с накатывающей тошнотой отметила, что на пол приземлилось что-то очень тонкое, металлическое. Наплевав на технику безопасности, она перешагнула остатки зеркальной перегородки и нагнулась к упавшему предмету. При ближайшем рассмотрении это оказалась обычная игла… наполовину окровавленная.
В памяти пронесся носовой платок с вышитым человеческим глазом и слова Марии о дарах трех сестер, которые должны пригодиться.
Так вот, значит, что имелось в виду…
Финистов орал от боли. Неудивительно, ведь ему в глаз вогнали иглу. Василиса на миг забыла о ней, когда на плечо опустилась рука Марии.
– Прошу, проснись! – снова крикнула она, теперь уже ей, Василисе. – Куда ночь, туда и сон! Куда ночь…
Сергей скрутил пациентку. В комнату влетели люди. Кто-то увел Финистова, кто-то посадил Василису на стул и сунул ей в руки стакан. От воды шел устойчивый запах сердечных капель.
– Твою мать! – выругался главврач и посмотрел на нее с отчаянием. – Ну и что теперь делать?
– Пожалуйста, нет! – надрывалась из коридора Мария. – Поцелуй любви не помог, сон слишком крепок. Мне пришлось… Ему надо прозреть!
И вдруг крик ее оборвался. Видимо, из-за лошадиной дозы транквилизаторов. Василиса со своего места видела, как Мария обмякла в руках подоспевших на помощь медбратьев.
– Да знаю я, что делать, – зло выплюнула Василиса. – И вы тоже знаете.
Она не швырнула стакан об стену, хотя очень хотелось. Вместо этого решительно вернулась в кабинет, рывком выдвинула ящик с документами, достала из него папку с личным делом Марии и быстро вписала резюме:
«Шизофрения, острая стадия. Опасна для себя и окружающих. Требует изоляции».
Печать клиники врезалась в белый лист с легким хлопком, будто выстрел того самого ружья, повешенного на сцене в самом начале.
Все было на поверхности. Почему она, Василиса, так долго колебалась? Идиотка, настоящая идиотка! Позволила ввести себя в заблуждение, не раскусила пациентку сразу.
Боже, как глупо! И как же жаль Финистова!
Лучи заходящего солнца медленно окрашивали кабинет в алые тона. И Василисе после сегодняшнего дня казалось, что стены заливает чужой горячей кровью. Той, что осталась на ее руках.
* * *Спит старый сосновый лес. Покачиваются на ветру вечнозеленые лапы ветвей. Верхушки скрипучих стволов протыкают темное небо с желтым маслянистым полумесяцем. Где-то вдалеке ухает сова. Ставни избушки, окруженной костяным забором, распахиваются от сквозняка. Лунный свет россыпью жемчужной пыли растекается по черной шерсти кота, пробравшегося на подоконник. Из глубины мрачной избушки доносится голос хозяйки:
– Васька, не намывай мне гостей! Только этих спровадила.
Хозяйка избушки поправляет серебристую косу под цветастым платком и, шаркая, добредает до горницы. В ней, покачиваясь на цепях, висит хрустальный гроб. В его объятиях спит девица. Та самая, что отображается в блюдечке с бегущим по нему яблочком.
– Куда ночь, туда и сон! – кричит девица, пока добры молодцы в белых халатах заламывают ей руки. – Проснись, проснись!
– Тю, да куда ему, милая, – шепчет хозяйка избушки. – Отражение разве разбудишь?
Она подходит к хрустальному гробу ближе, достает пузырек и подносит его к спящей девице. Сон ей снится беспокойный, нежное лицо кривится в беззвучном плаче. По щеке скатывается одна, вторая, третья слезинка… Каждую хозяйка избушки бережно ловит в пузырек.
– Вот так, милая, вот так. Без слез твоих не сваришь любовное зелье. А без зелья настоящий Финист и не взглянет на твою сестру. Ох, и не повезло тебе, милая, с родней, ох!
Хозяйка избушки качает головой и отходит в сторону. Ее зоркий, не по возрасту молодой взгляд прикован к блюдечку. На его дне отображается уже другая девица. Очки в роговой оправе и новый цвет волос не сильно меняют ее ученицу. Она узнает ее сразу же и с трудом унимает занывшее сердце.
– Помню я про твою просьбу, – негромко роняет хозяйка избушки в темноту горницы. – Просила у меня забвения, его и обрела. Надеюсь, теперь твоя душенька спокойна.
И тихо-тихо, украдкой смахнув слезу, она ласково добавляет:
– Спи, малышка, спи. Глазки покрепче сомкни…
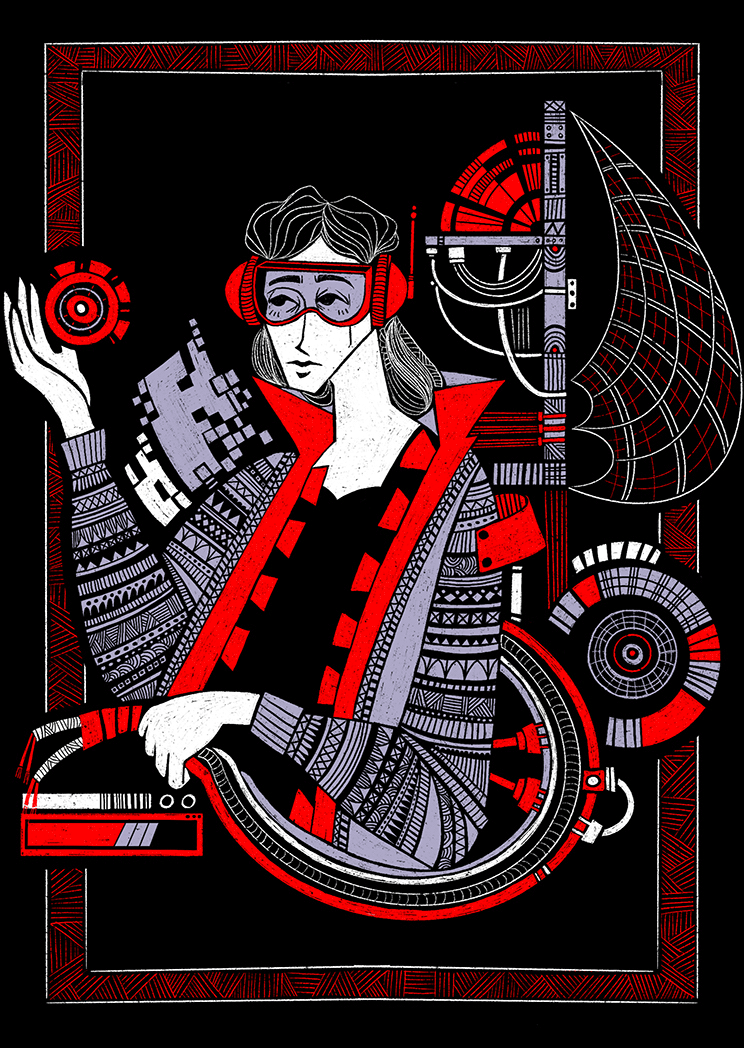
Екатерина Звонцова
Дурочка
По мотивам сказки «Летучий корабль»Денису, Маше и всем капитанам книжных кораблей
1Лампы – десяток холодных созвездий под куполом – засияли сами, стоило открыть дверь. Цесаревич замер, прищурился, козырьком приложил ко лбу бледную ладонь. Настороженный свет все равно сделал его глаза особенно, невыносимо серебристыми. И резче обозначил тени под ними.
– Здесь. – Цесаревич переступил порог, но дальше – ни шагу, просто прислонился к стене, скрещивая руки на груди. Под расстегнутым плащом блестели пуговицы-полумесяцы и лунный камень в геральдическом медальоне. – Впечатляет, правда? Не бойтесь.
Вольяна молча прошла вперед, украдкой сжимая за спиной кулаки. Если он кого и успокаивал, то себя, она-то не из тех, кто ценит ободрение, улыбки и прочее. Только решенные проблемы. Не по-девичьи это, всегда упрекал отчим, благодарнее надо быть.
Но Дурочка же, что с нее взять.
– Ни один механизм в этом доме никому еще не причинил зла.
И все же голос Цесаревича шелестел приятно, напоминал майский ветер в родном саду, тот, что колыхал плюшевые кисти сирени и играл упругой травой, шуршал листами и норовил вырвать из рук чертеж. Не успокаивал, нет. Но отступиться не давал. Цесаревич снизошел до нее, и отвел сюда, и все говорил, говорил с ней, прожигая взглядом напряженную спину, рассеченную длинной черной косой ровно между лопаток.
Не просто так. Цесаревич надеялся. Возможно, даже больше, чем она.
– Что, если я не справлюсь? – все же слетело с губ.
Теперь Вольяна ясно видела то, за чем пришла. Рогожи сняли, металл со всей предательской ржавчиной обнажили, носовой фонарь – чудный, из цветных стеклышек – угрюмо качнулся на скрипучей цепи, словно своим приближением худенькая новая хозяйка сиротеющего дома подняла все ветры Империи Серпа. Корабль был старым – это она знала. Огромнее, чем ей представлялось. А еще корабль тоже был болен. Умирал. Как…
Все предательски расплылось перед глазами.
– Вольяна, – окликнул Цесаревич глухо. – Я и не жду побед. У него скверный нрав, он может отказать, даже если кинете к его ногам все чудеса мира. Не убьет вас – уже будет хорошо.
Она обернулась, быстро проморгалась, вгляделась в темноволосую фигуру, будто сошедшую с затертых фресок, где Три Царя протягивали руки Трем Царицам. Величественный… Если бы не скорбные тени под глазами и не опущенные углы рта.
– Его чинили? – Она положила ладонь на обшивку. Прислушалась.
Цесаревич покачал головой, сбив прядь на глаза, и горько улыбнулся.
– Надеюсь, у вас еще будет возможность обсудить с супругом, можно ли починить то, что изначально не работало…
Вольяна подняла ладонь, обрывая, тут же устыдилась дерзкого, не бабьего жеста – но Цесаревич замолк и на удивление сник.
– Прошу извинить. Много говорю и глупо шучу, когда волнуюсь.
– Я лишь имею в виду, нужно ли проверять механизмы, конструкции…
– А, их проверили, – заверил Цесаревич. – Я попросил. Сразу. Подумал… – Он запнулся и закончил иначе: – Мои руки опущены, Вольяна. Как и у всех. Мы не знаем, где ошибка, чего не хватает. А ваш муж не говорит… ничего, кроме «Это фатально».
Она сухо кивнула. И, не в силах больше терпеть взгляд, пошла к болтающейся по левому борту грустной лесенке. Поднялась тоже молча. А на палубе, ржавой и пыльной, позволила себе сползти на пол у одной из мачт, сжать руками голову. Мачты… зачем, если сердце корабля механическое? И если фатально не бьется? Или?
Тук… тук…
Нет, показалось.
Она не заметила, как Цесаревич поднялся следом, – очнулась, когда он мягко протянул руку. Не коснулась ухоженных пальцев и жемчужных перстней. Встала. Отвернулась.
– Осмотримся, где там машинное?
Сама она спрятала бы важные внутренности в трюме, с другой стороны, если налететь на что-то, – повредятся первыми. Как сломанные ребра протыкают в теле все нежное, беззащитное…
Тук-тук.
Да что же это? Нет, не снизу шум.
Они медленно обошли все: и жилое, и рабочее. Механизмы ждали аккурат в середине, в узкой низкой рубке, – смазанные будто вчера. Только вот ни печки, ни гребных винтов; снасти – тоже ни одной. Будто не доделан корабль. Но доделан.
Просто строился не для морей.
– Осталось последнее место, – нарушила тишину Вольяна. Они снова были на палубе, разглядывали мачты, избегая смотреть друг на друга. – Пойдемте. Поглядим.
Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Теперь она точно слышала.
Они пришли на капитанский мост, к штурвалу. Он – единственный тут – переливался теплым деревом. Тонкие рукояти, вязь резной зеленой листвы… резной? Вольяна ахнула, всмотревшись. Нет. Рукояти оплела живая лоза, густой вьюн с закрытыми бутонами. Что это?
Тук-тук-тук!
– Слышите? – шепнула она.
– Нет…
Опустилась на колени, дрожащими пальцами повела по стеблям. Вьюны убегали – вниз, но не до палубы, пропадали в штурвальном корпусе, на котором колесо и стояло. Не деревянном, металлическом. Тайный отсек? Не может быть. Разве так штурвал работает?
Тук!
– Вольяна… – прошептал Цесаревич. Не жалея наряда, опустился рядом, первым потянул руки под вьюн. – Там вроде дверца. Я попробую?
Створку совсем не тронула ржавчина. Цесаревич подцепил край, дернул – и она покорно, без скрипа открылась. Тусклая розоватая вспышка – одна, другая, третья – коснулась глаз Вольяны. И словно живая забилась в висках, в горле, в груди. Тук-тук-тук-тук.
– Камень? – Не понимая, она все вглядывалась. Розовый кристалл пульсировал там, в глубине. Рядом тихо шепнули:
– Сердцецвет. Вот как… мог и догадаться.
Они переглянулись. Цесаревич разомкнул руки, которыми, пока Вальяна робела, успел обхватить находку, точно уложить в маленькую лодку. Чего он ждал, замерев? Почему глаза его стали еще грустнее? Он отстранился.
– Попробуйте вы.
– Попробовать что? – Голос охрип. Но она уже догадалась. Вспомнила.
Волшебство. Как есть. Тайное. Чужое.
Ее лодочка из ладоней получилась еще меньше.
– Попробуйте, – твердо повторил Цесаревич. – Просто нужно, видимо, много. Даже больше, чем есть у меня…
Он поднялся. А Вольяна сгорбилась, склонилась, коснулась камня еще и дыханием. Он отозвался, дрогнул, точно птенец – замерзший, голодный, забытый в гнезде. Вольяна понимала, как никто: птенцом была и сама. Зажмурилась. И заговорила – про себя, не разжимая губ.
«Дурочка. Так меня стали звать, когда…»
Она отдавала камню тайну своего сердца, горести – а розовое сияние крепло, и ржавчина сходила с темного металла, и вьюны распускали бутоны, и на мачтах сами сгущались паруса, сотканные из малиновых туч.
Созвездия меркли. Сердцецвет просыпался, наполнялся силой. Летучий корабль оживал.
Ведь Вольяна любила его лежащего на смертном одре создателя.
* * *Дурочка. Так ее стали звать, едва умер папа. Дурочками и Дурачками в Империи Серпа звали всех девиц и юнцов, отбившихся от рук.
Справедливости ради, Вольяна к ним и не прибивалась. Бунтаркой тоже не была, не рвалась в запрещенное женщинам – во власть и армию. Штаны не носила, косу не стригла – считала, некрасиво. Но не хотела и простых дел: шить платья куклам, читать сказки о царевнах-белоручках в башнях. Больше ей нравились механические собачки и журавлики, а еще – старые-старые, запрещенные книги о временах, когда не было Империи Серпа, а было Шесть Царств, и правили там Три Царя и Три Царицы, вольные, своенравные.
Равные.
Папенька учил ее механике: чтоб собачек и журавликов делала сама. Маменька читала с ней книги: может, тоже тосковала по вольной воле. Нет, Батюшка-Император не был плох, его Сыновья-Цесаревичи – пятеро, правящие в разных землях, – славные. И все же… Вольяне не нравилось, что, когда едешь в гости, надо брать к другим детям не журавликов и собачек, а кукол. И что любимые книги живут в подвале, обернутые десятком тряпиц.
Но когда папенька умер, упав однажды с коня и расшибившись, она поняла: то была сносная жизнь.
Отчим привел в новый общий дом дочерей, красивых и воспитанных. Первым, найдя заводного журавлика, объявил Вольяну Дурочкой. Сводные сестры подхватили, маменька – не вступилась. Смолчала. Папенька оставил ее с долгами, потому что, кроме семьи, любил еще карты и жертвовать сиротам, много и часто. Отчим все щедро оплатил.
Вольяна подросла. Стало пора замуж. В дом один за другим пришли: развязный грузный скотопромышленник, угрюмый робкий купеческий сын, молодой министр с цепкими пальцами и жгучими глазами. Вольяна не противилась. Всех вела на рандеву, место которого, по обычаю, выбирала сама. Всегда одно – сердце Речной Столицы, музей Автоматов, что держал Третий советник Пятого Цесаревича, старый господин Дей Гофман. То был мир поющих шкатулок, заводных игрушек, станков, изящных роботов, похожих на людей. Там Вольяна вспоминала папеньку. Говорила с женихами. Но каждому казалась негодной, настоящей Дурочкой – вялой несмеяной, громкой грубиянкой, непокорной недотрогой. Хотя даже не пыталась их отвратить, просто была собой. А уходя, оставляла в уголке музейного крыльца по журавлю. Просто так.
Отчим злился, получая отказ за отказом. В конце концов сдался – и решил иначе. Падчерица, объявил он, лучше послужит семье, став богопослушницей. Такие – часто Дурочки, им уродуют лица едким ядом, обривают головы и отправляют в храмы – поститься и молиться о Покаянии за Трех Цариц и о Том, Чтобы Враг Не Пришел.
Ведь Царицы согрешили. А Враг не дремлет.
Вольяна не роптала, лишь стала выбирать, что лучше, куда шагнуть – из окна или в океан с грузом на шее. Почти выбрала океан. Но через пару дней за нее посватались снова.
Господин Гофман явился сам: высокий, жесткие руки с пугающе черными венами, иссеченное морщинами хищное лицо, белая грива, брошь-револьвер на шейном платке. Только прищурился в ответ на «У нас живет пара более достойных вашего превосходительства девиц» – и отчим сдулся, ссутулился, хотя в росте гостю не уступал.
С Вольяной они не пошли в музей, а сели на скамье в сиреневом саду. Гофман, чьи седины были на фоне черного сюртука как снег, слабо улыбнулся и, пытливо всматриваясь, бросил:
– Ваши журавли летают. Я видел. Достойная работа.
Вольяна молчала. Сердце стучало в висках. Тук-тук.
– Я желаю забрать вас отсюда, – хрипло продолжил Гофман. Цветок сирени упал на его плечо. Пять лепестков. – Вам здесь не рады. Мне нужен кто-то, кто сможет заботиться обо мне, доме… – он равнодушно потер черные вены, – …а когда я умру, – думаю, скоро, – сменит меня, где возможно. Будет смотреть за механиками. Музеем. За Цесаревичем, например, став фрейлиной его жены, ведь рано или поздно он женится. Понимаете, власть – тоже механизм, чувствительный к потере винтов…
Вольяна понимала, но не верила. Это все – о ней?
– Я наблюдал за вами всякий раз. Оставил ваших птиц. Вы мне нравитесь.
Вольяна молчала, боясь шевелиться, краснела, бледнела… не выдержала. Цветок лежал у Гофмана на плече. Она схватила его – и быстро сунула в рот. Сладкий. Душистый. Как… счастье? Гофман воззрился на нее, поднимая густые брови… и рассмеялся.
– Да. Определенно. И не бойтесь: обойдемся без «Вы мне тоже». Не люблю ложь.
Через неделю она стала его женой и нашла небывало приятными его компанию и все еще крепкую руку, на которую можно опереться. Через две – прижилась в усадьбе, среди недособранных автоматов и чудаков-механиков. Через три…
«Не люблю ложь». А ведь слова просились с языка.
Он оказался хорошим человеком: не угрюмым гордецом, не надменным гением. Рассеянный по утрам, замкнутый, но не чуждый тепла и смеха, вежливый, прощающий все, кроме уныния. Он говорил с Вольяной не как она боялась – не как с недалекой внучкой. Терпеливо вводил в дела, смотрел и поправлял чертежи. Слушал и брал в разработку ее идеи. Повторял: «Далеко пойдете». А в доме уцелели его старые портреты. Автоматы, мелькавшие на них, были вполовину не так совершенны, как нынешние, но сам Гофман, темноволосый, с едва наметившейся ранней проседью, полный сил…
Смотря на него там, в прошлом, Вольяна словно обнимала прекрасного призрака.
Через месяц он, и так мучавшийся болями в костях и чернокровием, занемог, слег и стало ясно: не оправится. А Вольяна поняла, что не хочет… нет, нет, нет!.. быть вдовой. Ее душили тоска и жалость. И еще сильнее душили чудесные сны о непрожитом – где встретились они юными, где могли взаправду быть супругами, где завели детей.
Почему? Почему это только мечта, да еще мертворожденная?
На пятой неделе под вечер она встретила у постели мужа тонкую фигуру, и под плащом блеснул гербовый медальон. Цесаревич не поспешил скрыться, сам заговорил в коридоре – и оба они, что малые дети, не сдержали слез. Гофман был наставником Цесаревича в физике и механике, а во младенчестве – единственным, кто мог забавной заводной игрушкой успокоить его плач. Теперь Цесаревич тоже горевал. Но когда слезы высохли, вдруг огляделся и приложил палец к губам.
– Вольяна, – заговорил он, – а вы слышали о Золотом Буяне? Там правит недобрый, но могущественный, вечно юный король Альбатрос. У него, говорят, есть молодильные яблоки… которые он иногда готов обменять на чудо.
2Клетку привезли на большой телеге. Массивная, низкая, она скорее подошла бы тигру. Да и разлегшийся внутри узник на пирата не походил. Вольяна представляла иначе: что-то косматое, бородатое, без глаза и пары зубов. Старше. А тут… юноша, модник: соломенные кудри до плеч, фазаний камзол, кружевная рубашка, на сапогах – банты. Лениво улыбается, подперев голову тонкой рукой. А воздух из-за него звенит морозным стеклом.
Дзи-и-инь!..
– Осторожнее, осторожнее, челядь! – капризно бросил он; с губ сорвалось облачко инея. Клетку подняли четверо дюжих стражников и понесли на палубу.
Вольяна наблюдала, стоя у борта, клевала носом. Устала: и от сборов, и от зевак, которые, стоило кораблю с парусами-облаками появиться во дворе музея, повадились ходить сюда толпами. Так устала, что даже не заспорила, когда вчера Цесаревич сообщил: «Летите не одна».
– Головой отвечать не хочу, – бросила теперь Вольяна.
Цесаревич, которого в стороне ждала еще стража, подошел и поклонился.
– Не отвечайте. А лучше вообще не подходите. Заморозит. Пискнуть не успеете.
Пирата так и звали – Гроза Морей, – и был он родом с Буяна. Обычно остров не покидали, Альбатрос запрещал, но попадались наглецы. Грозе вот нравилось щеголять колдовством. На Буяне-то колдуют все, зато в Империи, где люд обычный, есть кого пограбить, попугать с верной командой. Но наконец Грозу поймали. И – как водится – собрались вернуть королю. Цесаревич подхватился: пусть летит на чудо-судне. Так буянцы точно пустят гостью. А ну как впрямь отблагодарят яблоком?
– Отвечает он. – Цесаревич оглянулся, кому-то кивнул.
От толпы отделился молодой мужчина, голубоглазый, горбоносый, в сером, как штормовое небо, мундире. Не склонился – сухо кивнул; ни пряди не выбилось из тугого хвоста. На поясе сверкнули плеть и серп.
– Бессчастный. – Имя, фамилия? – Это, Вольяна, страж. Пожиратель. Ему подходить – можно. Но следите, чтобы не лютовал, суровый он.
Бессчастный молчал. Жутковатый. И… Пожиратель. Тот, кто не поддается чарам, «съедает» их. Вольяна прислушалась. Сила стража для нее тоже звучала – не стуком, как сердцецвет, не звоном, как дыхание пирата, а гулом, низким, протяжным.
Ом-м-м-м.
– Приятно, – только и сказала Вольяна, бегая взглядом по золотым эполетам.
Страж молча ушел на борт. Цесаревич проводил его глазами и, извиняясь, зачастил:
– Он вас и защитит, и вопросов не возникнет к женщине-капитану, и проветриться ему надо, закручинился что-то…
Вокруг собиралась любопытная толпа. Людей не подпускали, но галдеть и тянуть шеи они могли сколько угодно. Вольяна сглотнула. И оборвала Цесаревича, спросив:
– Вы позаботитесь о моем муже, пока…
– Лучшие врачи будут с ним. Я буду приходить. А вы…
– Я попрощалась. Да. Сказала, что исправила «фатальную» ошибку с кораблем, он так обрадовался, сам попросил тоже… как вы сказали, «проветриться», не чахнуть с ним. Но я не сказала, куда полечу.
Цесаревич нахмурился. Явно собрался упрекать.
– Не хочу давать надежду. И все.
– Если и подведете, ваш муж стоически относится к смерти, давно…
– Я не отношусь! – Она повысила голос, рвано выдохнула, отступила. – Простите. И пугать не хочу. Глупость, понимаю, но…
– Как знаете, – печально отозвался Цесаревич, прикладывая к груди руку.
Знает? Нет. Но сегодня, войдя в серую от сумрака и страдания спальню мужа, сжав все еще крепкую, но иссыхающую ладонь, убедилась: выбрала правильно. Он лихорадочно всмотрелся в нее – что-то чувствуя? Шепнул: «Не бойтесь: я и в небе буду с вами». Закусил от боли губу. Сердцецветы, огнецветы, громоцветы, звездоцветы – чудо-камни, что беглые колдуны крали с Буяна и продавали людям, – он использовал в механизмах не раз. Потому так теперь и мучился. И долго умирал. Прощаясь, тихо пообещал: «Дождусь. Хотя знаете… есть у меня совсем бесполезное старое изобретение, пистолет, чья конструкция выдержит лишь один выстрел… зато пуля долетит в любой конец мира, куда пожелаю. Всегда думал, спасу однажды ею кого-то, может, нашего Цесаревича, а теперь хочу послать себе в голову. Но не стану».
– Удачи. – И Цесаревич отступил. – Берегите себя.
Народ, видя его печаль, загомонил сильнее, но для Вольяны все восклицания и вопросы слились в пчелиный шум. Она молча поднялась на корабельный нос. Встала у штурвала. Коснулась рукоятей, увитых вьюном, – и облака-паруса, сейчас белые как день, поймали ветер.
Летучий корабль отправился в путь.
3– Эй, девка, – бросили из клетки. – Или кто угодно, все равно. Расчешите мне волосы!
Вольяна посмотрела на Бессчастного, с которым они, как и остальная скудная команда, привычно коротали время на палубе, силясь согреться лучами прохладного солнца и рассмотреть небесный пейзаж. Не сидеть же в каютах. А вот разговоры не клеились. Все попытки Вольяны быть милой или хоть вежливой разбивались об угрюмость. Наглость Грозы Морей разбилась так же.
– С чего? – Бессчастный не повел и бровью.
– А с того! – Пират сощурился, мотнул головой. – Третий день летим! А меня никто не чешет. Сам не могу! – Он потряс руками, связанными и скрытыми куском мешковины. – Кормите с вил, как скотину, так хоть причешите!
Прикосновением он тоже мог заморозить – выяснилось, когда в первый день попытался убежать. Один из часовых чуть не лишился руки, второй – носа.
– Много хочешь, – бросил Бессчастный и снова облокотился на борт. – Баба…
Вольяна поморщилась, но смолчала. Пара увальней, стерегущих клетку, обменялись ухмылочками. Эти двое – все, кого Цесаревич дал. Никакой прислуги, юнг, инженеров. Неудивительно: Буян был местом хитрым, оттуда редко возвращались. Поэтому припасы взяли простые, вроде фруктов, хлеба, вяленого мяса, а в остальном понадеялись на разумность корабля. Ведь сердцецвет давал автоматам какой-никакой разум, даже речь – понимал. Довезет.
– Я сказал, р-расчешите меня! – Пират повысил голос, и ледяной ветер обжег Вольяне щеки. – Или Альбатрос точно не даст вам ничего! Прикончит вас!
Бессчастный снова окинул его брезгливым взглядом. Напомнил:
– Ты вообще-то его подвел. Мы тебя везем судить. И с чего ты решил, будто нам от него…
Пират расхохотался. Магия его зашлась невыносимым звоном.



