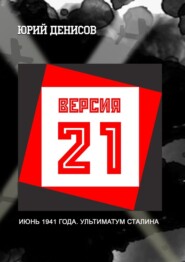скачать книгу бесплатно
Очень быстро в прошлое отошел июль. Последнее воскресение отгремело грохотом орудий и салютов совместного парада украинского и российского флотов. Как вскоре оказалось, совместный парад был последним совместным.
Георгий Михайлович Карамзин, стоя на площадке у Памятника затопленным кораблям, тихо напевал: «Скоро осень, за окнами август». Где-то далеко август мог напоминать об осени, но только не в Севастополе. Было по-летнему жарко. И ни вечером, ни ночью прохладней не становилось. Георгий, как это часто с ним случалось, возле моря размышлял. После развитого социализма при недоразвитом капитализме кое-что в городе изменилось: вывески, рынки, маршрутки, застройка береговой черты, новые особняки и здания. Но были островки городского пространства, в которых ничего не менялось. Такими островками севастопольского мира были библиотеки и архивы города. Музеи Севастополя Георгий Михайлович хорошо знал. Их в городе было где-то пятнадцать. А севастопольские библиотеки, за их советскую патриархальность, просто любил. Они напоминали ему далекое школьное детство, когда Георгия вместе с родителями мотало по городкам и медвежьим углам необъятной России. И всегда, и везде, на любом новом месте Георгий начинал свою новую жизнь с библиотеки. Они все были одинаковы. И, конечно же, с одинаковым набором газет, журналов и книг. Книги и журналы, скромные по оформлению, они были великолепны по содержанию. И сегодня, теплым августовским севастопольским днем, в Международный день библиотек, Георгий вспоминал с нежностью о своем далеком книжном прошлом.
В городе было где-то около сорока самых разных библиотек. Известность некоторых выходила за пределы города. Библиотека имени Льва Толстого была известна, помимо своей просветительской деятельности, широкими международными связями. И, конечно же, каждый флотский офицер России знал о севастопольской Морской библиотеке, основанной великим адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым. Были библиотеки: детская, техническая, медицинская. Все мужественно и стойко держались в условиях нового времени. Но недавно как-то вдруг открылось, что Карамзин не знал о целом культурном библиотечном пласте в культурно-исторических недрах своего города. Прав, жестоко прав адмирал Железнов! Ищем истину далеко и высоко, а настоящая россыпь здесь, рядом, в Севастополе. Оказалось, что очень ценной библиотекой располагает севастопольский городской архив. Очень интересная библиотека – при Музее героической обороны и освобождения Севастополя. Мало известна севастопольской публике и библиотека Музея КЧФ.
Карамзин вздохнул. Материалы этих и других библиотек были очень ценными, но технологии их использования оставались ветхозаветными. Ничего не оцифровано, никаких современных технических средств для работы с материалами. Карамзин взглянул на часы. Приближалось время встречи. По давней традиции библиотечный день он и его супруга отмечали в библиотеке своего района. Вот и сегодня Ксения Петровна Щербакова, заведующая библиотекой, пригласила их на склоне дня отметить свой профессиональный праздник. А дело в том, что и супруга Победимцева дружила с госпожой Щербаковой, и у них были общие интересы по организации различных встреч и конференций. Но уже без Орлова обойтись было никак нельзя. Орлов в этот день был один. Марию Степановну унесло с очередными родственниками куда-то за черту города. Место встречи и время были определены заранее, и Карамзин, бросив последний взгляд на великолепные виды Константиновского и Михайловского равелинов, освещенных предзакатным севастопольским солнцем, стремительно вышел к остановке на проспект Нахимова, прыгнул в маршрутку и через десять минут был на месте встречи. Орлов и Победимцев подтянулись организованно. Их встретили Элеонора и заведующая Ксения Петровна, ее хорошая приятельница, милая приятная женщина, скоро тридцать лет как стоящая на своем боевом посту. Все были хорошо знакомы, кроме одной молодой сотрудницы Юли, но, тем не менее, церемонно раскланялись, а дамы благосклонно приняли цветы и комплименты. После чего сотрудники закрылись на официальную часть в кабинете заведующей, а друзья отправились в читальный зал.
В читальном зале, кроме всего прочего, бушевала выставка детских рисунков. Друзья окинули ее медленным взором и как-то дружно все вместе задержались у листа ватмана с огромным зеленым танком с красной звездой на башне, ведущим огонь по дальним немецким позициям. Все поле у танка и вокруг танка было усеяно красными маками, картина называлась «Май 1944 года». Друзья переглянулись, вспомнили Ивана Боброва, заряженные сильным неожиданным впечатлением, устроились в уголке читального зала. Был один час до, как им объяснили, неофициальной части вечера, и друзья, не теряя времени, сосредоточились на обсуждении своей нынешней темы первого налета на Севастополь ранним утром 22 июня 1941 года. Но разговор должен был носить не общий характер. Темой должна была стать ситуация с первоисточниками. Но не со всеми, а только с мемуарами, воспоминаниями непосредственных участников и очевидцев тех далеких событий. За прошедшие два месяца дилетанты-исследователи изучили много материалов и, как всегда, получили больше вопросов, чем ответов.
Георгий Михайлович внимательно обвел взглядом присутствующих и, хотя в читальном зале, кроме друзей, никого не было, тихим приглушенным голосом начал свое сообщение: «Господа офицеры! Как вы, надеюсь, помните, при нашей последней встрече наш глубокоуважаемый адмирал Аркадий Иванович Железнов обратил наше внимание на то, что мы, витая в заоблачных исторических высях, ничего не знаем о своих местных исторических россыпях. Он, как вы помните, упомянул «Золотую коллекцию» Валерия Крестьянникова. И я направился в городской архив.
Городской архив меня и удивил, и порадовал. В «Золотой коллекции» – много прекрасных фондов наших севастопольских героев: Байсака, Пилипенко, Игнатовича, Неустроева, да – того самого командира батальона, разведчики которого водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Но по нашей теме – обширный фонд генерал-майора артиллерии Ивана Сергеевича Жилина, бывшего в июне 1941 года начальником Крымской зоны ПВО и командиром ПВО военно-морской базы «Севастополь». Материалы из фонда Жилина настолько своеобразны, что мы должны уделить им отдельное внимание. Открытием было и наличие в архиве очень редкой библиотеки. Там – книги Крымского издательства, изданные в пятидесятых годах. Это книги зенитчика Игнатовича, подводника Иосселиани, первого секретаря горкома ВКП (б) Бориса Борисова и первые книги редактора флотской газеты бригадного комиссара Павла Ильича Мусьякова. Книги Борисова отличаются в изложении фактов по мере их издания. У него я впервые прочитал, что 22 июня буксир «СП-12» тащил плавучий кран к месту падения самолета. А также – очень интересное сообщение о том, что еще до речи Молотова было выпущено обращение Военного Совета ЧФ об отпоре врагу. А какому врагу, Павел Ильич не уточняет. Но по отражениям интернет-форума Севастополя глухо звучит, что речь шла о Румынии. После речи Молотова самолет стал немецким, а затем в течение многих лет самолеты определялись как неизвестные. Совсем уж неожиданными для меня стали воспоминания подводника Иосселиани. До трех часов ночи молодые подводники спокойно танцуют, спокойно гуляют, и – никаких тебе тревог, никаких сборов, никаких БГ №1! Я упомянул о Севастопольском интернет-форуме. Там очень много материалов, но в большинстве своем они очень сомнительны. А теперь, очень кратко, хочу пройтись по хронологии наших источников. Первой книгой о первом дне войны в Севастополе, написанной в 1943 году, стала книга полковника Евсеева, командира учебного отряда ЧФ. Эта книга в том же 1943 году легла на стол адмирала Исакова, и Исаков наложил очень интересную резолюцию своему помощнику адмиралу Пантелееву: «Напечатать в „Морском сборнике“ в отрывках. И так, чтобы не было никаких дискуссий». Вот откуда началось сокрытие обстоятельств о первом дне войны в Севастополе. Книга, даже в отрывках, тогда не была напечатана. Появилась она в издании только в 1956 году, а что там осталось от рукописи, мы не узнаем. Но по содержанию можно понять, что ночью с 21 на 22 июня до раннего утра все было не так, как затем писали адмиралы.
Первой серьезной книгой о первом дне войны в Севастополе стала книга адмирала Азарова «Осажденная Одесса». Книга не привлекла внимания к Севастополю, так как писалась об Одессе, но первая глава книги была посвящена Севастополю. В это же время безуспешно пытался опубликовать свои мемуары генерал-майор Иван Жилин. В открытом доступе нет его материалов и сегодня. Все заиграло по-серьезному, когда в 1968—69 годах вышли материалы маршала Жукова и книги адмирала Кузнецова. Маршал Жуков в своих мемуарах начинает рассказ о войне с телефонного звонка от командующего ЧФ адмирала Октябрьского. И указывает время звонока – 3.17. А во втором издании, уже после смерти Жукова, время звонка уже другое – 3.07. А в книге адмирала Кузнецова «Накануне» звонок ему от адмирала Октябрьского определен в 3.15. Историки до сих пор ломают голову, почему Октябрьский звонил Жукову. Но вот в книге дочери адмирала Риммы Октябрьской «Штормовые годы» со ссылкой на дневники адмирала вполне четко говорится о том, что Октябрьский не звонил Жукову. Но также сообщается и о том, что в ночь на 22 июня в наркомате ВМФ не было адмирала Кузнецова и не было вообще никого из командования. Далее нам очень интересна книга генерала Моргунова «Героический Севастополь». Там – почти вся правда о горящих маяках. И, конечно же, книга адмирала Кулакова, члена военного совета ЧФ, «Доверено флоту». Не обойтись нам и без воспоминаний начальника штаба ЧФ адмирала Елисеева и оперативного дежурного ЧФ, в тот памятный день – капитана 1 ранга Рыбалко.
Итак, я вам, мои дорогие друзья, очертил круг свидетелей, очевидцев и участников, которые помогут нам по нашей теме. Очень во многом эти воспоминания и свидетельства противоречат друг другу, а иногда противоречат и здравому смыслу. Общее впечатление, что от нас больше скрывают, чем открывают.
А теперь – несколько слов о тех, кто был свидетелем, но ничего об этом не написал. Больше всех удивляет адмирал Исаков. Он за свою жизнь, и на службе, и в отставке, написал очень много. Но нигде и никогда он ничего не написал о первом дне войны в Севастополе и о том, где он был с 18-го по 22 июня. Адмирал флота Горшков, 22 июня в звании капитана 1 ранга, был в Севастополе, командовал бригадой крейсеров, но нигде и никогда не написал об этом ни строчки. Более того, как я уже говорил, в редактируемой им «Советской Военной энциклопедии» ни в одной из статей нет никаких упоминаний о налете на Севастополь немецкой авиации 22 июня 1941 года».
После речи Карамзина так же тихо заговорил Орлов: «Друзья, а все-таки официальные сообщения были. В речи Молотова в 12.15 было сказано, что немцы бомбили Севастополь в 4.00 утра. Молотов, как ни крути, – заместитель Сталина по Совнаркому и министр иностранных дел. Но был еще один нарком, участник наших событий – нарком НКВД Лаврентий Берия. По книге Риммы Октябрьской, со ссылкой на дневники ее отца, говорится о звонке Лаврентия Берии, еще до нападения немцев. У Берии версия налета совсем другая. Он обвиняет Октябрьского в том, что в Севастополе бомбили его, Октябрьского, самолеты. Этот разговор в интернете подтвердил адмирал Игорь Касатонов, который лично знал Октябрьского. Свидетельства двух других главкомов, Жукова и Кузнецова, официальными считаться не могут, так как во время написания мемуаров оба были «в глубокой отставке». Свидетельства всех фициальных лиц резко отличаются одно от другого. И мы помним, что вечером 22 июня по итогам боев была объявлена сводка главного командования, подписанная Жуковым. А в ней – ни слова о Севастополе.
На меня очень тяжелое впечатление произвели книги адмирала Кузнецова. Такое впечатление, что о разных флотах писали разные люди. Опубликованы воспоминания командующего Северным флотом адмирала Арсения Головко. Опубликованы очень своеобразные и подробные воспоминания начальника штаба Балтийского флота адмирала Юрия Пантелеева. Об обстановке на Черноморском флоте написано очень много, и ничего и никак не стыкуется. Об этом, я надеюсь, мы поговорим подробнее».
Орлов продолжает: «И вот что, мои дорогие товарищи! Я считаю, что наша история начинается с маневров, с неудачного десанта под Одессой, с исчезновения из событий адмирала Исакова и генерала Черевиченко, командующего Одесским военным округом. И здесь нам нужно внимательно изучить мемуары Маршала Матвея Васильевича Захарова, в те времена начальника штаба Одесского военного округа. У него много интересного: и о маневрах, и о создании Южного фронта, и о Директиве №1, и многое другое. Если бы не эти события, тема налета звучала бы по-другому. И позволю себе маленькое замечание относительно мемуаров наших военачальников. Писали их, как правило, наемные журналисты, мало сведующие в вопросах военной истории, военной и флотской жизни. Да еще под контролем военного отдела ЦК КПСС и главного политического управления СА и ВМФ. Здесь характерны воспоминания генерала Павла Ивановича Батова, в то время командующего 9-м особым стрелковым корпусом в Крыму, со штабом в Симферополе. Там, например, описано, как утром 22 июня немцы пробомбили штаб Стрелковой дивизии в Симферополе. И как после этого на столе перед Батовым и его офицерами лежат осколки бомб, а Батов думает: „Вот как начинаются войны, вот как гибнут люди!“ Все это – чепуха несусветная! Симферополь утром 22 июня никто не бомбил. А Павел Иванович Батов, до этого, прошел три войны и прекрасно знал, как гибнут люди. Думаю, что зачастую наши военачальники не только не писали свои мемуары, но даже и не читали их».
После Орлова в беседу вступил Победимцев: «Да, – молвил он, – ситуация для нас оказалась необычной. Кроме всего прочего, я попытался найти факты о налете на Севастополь в иностранных источниках. А их – нет. А вот, что есть. Генерал-полковник Франц Гальдер, начальник немецкого Генерального штаба сухопутных войск, написал в своем знаменитом дневнике, что военно-морские базы СССР не следует атаковать ни немецкими военно-морскими силами, ни немецкими военно-воздушными силами. Так в июне 1941 года и происходило. Русский исследователь Зефиров и немецкий исследователь Барр совместно издали книгу „Свастика в небе“, где подробно описали действия немецких ВВС в начале войны, в том числе и на Южном фланге. И в этой книге нет ни единого слова о налете на Севастополь. Налеты на Севастополь начались только 4 ноября, во время первого штурма, а до этого на Севастополь не упало ни одной бомбы. Русский исследователь Якубович провел тщательный анализ распределения сил люфтваффе в первый день войны. Ни одного самолета, по его данным, не было выделено для бомбежки военно-морских баз СССР. В ФРГ наконец-то вышла 10-томная „История второй мировой войны“, и там нет ни слова о налете на Севастополь 22 июня 1941 года».
Друзья помолчали, но долго молчать было некогда. Из кабинета директора стали доноситься шумы и звуки, свидетельствующие о подготовке неофициальной части международного дня библиотек. Но Эдуарду по его теме несколько минут все-таки дали. Эдуард собрал материалы по обстановке вокруг Черноморского флота в ночь на 22 июня и быстро четкой скороговоркой изложил свои впечатления: «У меня, как и у вас, господа офицеры, больше вопросов, чем ответов. Несколько слов о флотских маневрах. Никогда они не проводились в такое время. О целях и задачах этих маневров никто не пишет. И только в книге адмирала Азарова „Осажденная Одесса“, изданной и до Кузнецова, и до Жукова, четко и ясно написано, что главной задачей учений флота была отработка высадки десанта с кораблей на берег в небывалых доселе размерах, в составе целой дивизии. Официальная история и историки официального направления этот факт яростно отвергают. И никогда нигде не пишут об артиллерийских стрельбах, взаимодействии с подводными лодками, о совместных действиях с авиацией. А в воспоминаниях летчика Николая Денисова одной фразой упомянуто, что основной задачей их истребительного полка, базирующегося на аэродроме под Евпаторией, скорее всего это аэродром Саки, было прикрытие десанта с воздуха. Но о том, как, что и где он прикрывал – ни слова. У одного из авторов промелькнуло, что во время маневров над флотом висели немецкие разведывательные самолеты. А бороться с ними никакой возможности не было, да никто, собственно, и не боролся».
Эдуард легким поклоном головы поблагодарил друзей за внимание и устроился на своем месте.
В разговор тихо и осторожно вступил Орлов: «Не менее загадочны, чем в Севастополе, события этой ночи – в Одесском военном округе. Когда и как был образован Южный фронт? Историки спорят: то ли 21-го, то ли 24-го июня. Когда и каким образом назначался командующий? В интернете я даже обнаружил черновик документа, по которому командующим Южным фронтом 21 июня назначается генерал армии Тюленев, с оставлением за ним должности командующего Московским военным округом. Это что? Намечалась командировка в Бухарест? На несколько дней? Где был командующий Одесским военным округом Черевиченко? Почему войсками в первые часы войны командует начальник штаба генерал Матвей Васильевич Захаров? И как командует? Если судить по его, якобы неопубликованным, а потом опубликованным мемуарам, это – не управление войсками, а сумасшедший дом! И у всех у нас один вопрос: почему на Дунайскую флотилию и аэродромы Одесского военного округа нападают в 4.40 утра, а на Севастополь и Черноморский флот – в 3 часа утра? Всего, товарищи офицеры, о чем я вам рассказал, я коснулся очень бегло, просто погрузившись в имеющийся под рукой материал. Времени все продумать, сопоставить, проанализировать, пока не было. Вы уж извините. Я обещаю, что подготовлюсь посерьезнее и при следующей нашей встрече расскажу обо всем подробнее и осмысленнее. Воспоминания маршала Матвея Васильевича Захарова, в том виде, в котором они есть в открытом доступе, очень тяжелы для восприятия простым человеческим пониманием. В них надо вчитываться, вдумываться, все сопоставлять, и только тогда, может, удастся извлечь искры правды. К следующей встрече обещаю подготовиться серьезно».
Орлов грустно застыл в своем кресле. Вновь надвинулась звенящая тишина. Друзья так увлеклись, что и не заметили, что и в читальном зале, и за его окнами уже совсем темно. Но до контрольного времени оставалось еще несколько минут, и Карамзин на правах председателя взял эти несколько минут для своего заключительного слова. «Да, – тяжело вздохнул Георгий Михайлович, – наша сегодняшняя встреча оказалась, к сожалению, малопродуктивной. Но мы поняли, что тема, за которую мы взялись, совсем нелегкая, и кавалерийским наскоком нам ее не взять. Мы хорошо очертили перечень первоисточников, и я предлагаю, чтобы каждый из нас взял определенную часть мемуаров, документов, книг, и каждый по своей части выработал полное окончательное знание всех фактов, ситуаций и мнений для следующей нашей встречи.
О первом дне войны в Севастополе написано очень многими и очень много. Наша задача – не утонуть в материалах, и я предлагаю четко определить наших героев. В первую очередь это: Сталин, Молотов, Тимошенко, Жуков, Кузнецов и обязательно Берия». При упоминании фамилии Берии Эдуард и Владимир переглянулись, но Георгий жестом их успокоил: «Объясню потом. Второй ряд – это наши севастопольские герои: Октябрьский, Кулаков, Азаров, Мусьяков, Борисов, обязательно Жилин, обязательно Евсеев и Иосселиани. Никак не обойтись без статьи Рыбалко и ни в коем случае нельзя не проработать книгу Риммы Октябрьской «Штормовые годы». Для общей картины нам будут очень полезны книги Головко, Пантелеева, Захарова. И мы обязательно должны помнить о работах таких «великомучеников от истории», как и мы: Исаева, Солонина, Казанкина, Мещерякова, Грейга, Мартиросяна. Все они так же внимательно и напряженно всматривались в плотную мглу начального периода Великой Отечественной войны. Дали много разгадок. Но, по моему мнению, многого еще и не дали. Не забудем и о тех, кто здесь был, но по каким-то причинам никаких свидетельств не оставил. Это – Исаков, это – Горшков, это – Фадеев. И один из наших главных героев – Октябрьский, который, как оказалось, что-то и написал, но за всю свою долгую жизнь не опубликовал ни строчки. Работы много, и мы должны договориться, чтобы каждый из нас внимательно и глубоко проработал по каждому отдельному направлению. Вот так, мои дорогие друзья, желаю успехов – и вам, и себе».
И в это время открылась дверь читального зала и щелкнул выключатель. Друзья мгновенно были ослеплены, но не приглушенным матовым светом в светильниках читального зала, а ослепительным видением, чудным мгновением появления Юли, помощницы директрисы. Ее молодость, ее очарование, ее невообразимое одеяние так поразили наших героев, что все мысли о войне унеслись далеко-далеко. А волшебное действие продолжалось. Юля невообразимой походкой на высоких каблуках, с загадочной полуулыбкой бесшумно приближалась, глубокий вырез ее прозрачной кофточки и немыслимо короткая юбка на удивительно стройных ногах – поражали наповал. Друзья оцепенели. Оцепенели не только их фигуры, застыли и оцепенели их взгляды. А мимолетное видение, подойдя к столику друзей, с загадочной улыбкой и глубоким книксеном, пригласила товарищей офицеров на неофициальную часть торжества в кабинет заведующей, и так же натренированной походкой «Мисс Севастополь» прошла в директорскую и скрылась за дверью. Пока она шла, оцепенение продолжалось. Такими красавицами был полон город, и это не только отражалось на настроении его гостей, но и заставляло таких обитателей, как наши герои, держать себя постоянно в мужской офицерской форме. Чудное мгновение закончилось, и товарищи офицеры, в соответствии с приглашением, направились в кабинет директора.
Библиотечное сообщество было в сборе. Все были оживлены, нарядны и красивы. Был накрыт скромный стол. Но когда господа офицеры освободили свои портфели, стол перестал быть скромным, и это внесло дополнительное оживление во всей честной компании. Вечер прошел как обычно, в милых приятных разговорах о судьбах русской литературы. Молодой человек Александр, как оказалось, друг Юли, прочел несколько стихотворений из поэтов «серебряного века». Фортепиано в библиотеке не было, и несколько песен было исполнено тихими задушевными голосами «а капелла». Друзья хорошо отдохнули, забыв на несколько часов о своих скромных делах и о своих военно-исторических увлечениях. Был уже глубокий вечер, когда все стали собираться. Юля, которая была несомненным украшением вечера, облачилась в какое-то длинное серое одеяние и вдруг стала совсем незаметной. Эдуард опять оцепенел и прошептал на ухо Орлову: «Смотри, Володя, что делает маскировка. Только так, серой невидимой тенью, красивая девушка должна ходить по ночному городу». Не забыв свои мальчишеские выходки, друзья над разгромленным столом подняли «на посошок» свои бокалы и, подчеркнуто церемониально, произнесли свои тосты: Карамзин – «За русскую литературу!», Орлов – «За ее верных служителей – библиотекарей!», Победимцев – «За верность долгу и искусству!» Все были знакомы с этой традицией. Каждый, по желанию, тоже что-нибудь выпил, и, весело улыбаясь, общество вышло в глухую темную севастопольскую ночь.
Программа «Светлый город» не работала, но, как всегда в таких случаях, микроавтобус обеспечивал сын Карамзина. Все устроились в автобусе и благополучно отъехали, а Эдуард с супругой Элеонорой Романовной и Георгий с Ольгой Сергеевной, поскольку жили рядом, решили прогуляться. Пошли провожать Карамзиных. А поскольку самое лучшее в мире красное сухое вино никогда не валило с ног и даже не утомляло, потекли разговоры. И, куда деваться, снова вышли на тему о первом налете. Элеонора Романовна знала тему и с интересом слушала, временами задавая вопросы, что совершенно не мешало друзьям, а несколько более сильно будоражило память и разжигало воображение. В тишине безоблачной августовской севастопольской ночи под шорох листвы метались над городом образы Сталина и Берии, Тимошенко и Жукова, Октябрьского и Кулакова, гудели неизвестные самолеты. Метались прожектора, гремели зенитки, висели в небе белые парашюты и стремительно падали вниз донные мины с серо-зелеными парашютами. И в виртуальных декорациях этого исторического действия из темного хаоса прошлого вставали и падали вопросы, вопросы, вопросы. Георгий и Эдуард, не растекаясь мыслью по древу, и продолжили тему дня, тему мемуаров вокруг налетов, «вальс мемуаров», как определил эту тему Карамзин. «Вальс мемуаров» – пропела эту тему Элеонора Романовна, «Вальс мемуаров» – согласился Эдуард.
За прошедшее время Эдуард ближе познакомился с Адлером. А набравшись новых впечатлений, поделился с Георгием. И сегодня, говоря о мемуарах, повел о них разговор с некой психологической точки зрения: «Очень интересной оказалась тема взаимоотношений авторов мемуаров. А здесь, как обычно, стена вопросов. Почему Жуков ни слова не говорит о Буденном? Все-таки первый замнаркома – он, а не Жуков! А Буденный вместе с Тимошенко и Жуковым присутствуют на совещании 21-го июня у Сталина. В наркомате обороны Буденный был доверенным лицом Сталина и пользовался не меньшим влиянием, чем сам Тимошенко. Это известно сейчас, было известно и тогда. Кстати, о доверенных лицах. Сталин везде, в каждом наркомате и не только, имел своих доверенных лиц, личных персональных осведомителей. В наркомате обороны и соответственно в генштабе, который входил в структуру наркомата обороны, и был С. Буденный. А в наркомате ВМФ – адмирал Исаков. Так вот, 21-го и 22-го июня фактически Буденный есть везде, а у Жукова его нет нигде. Но к нашей теме это прямого отношения не имеет. А вот почему Жуков общается с Октябрьским и не общается с Кузнецовым – не понятно. А Кузнецов как-то вообще умудряется не общаться ни с Жуковым, ни с Октябрьским, ни с Исаковым. И нигде не вспоминает о Кулакове. Загадки этого феномена темными облаками нависают над нами и сегодня. Жуков, как оказалось, еще в апреле 41-го года натравил на Кузнецова НКВД за нарушение приказа об открытии огня по пересекающим границу немецким самолетам-разведчикам, и якобы от больших неприятностей Кузнецова избавил только сам Сталин. А Исаков, как оказалось, очень часто бывал у Сталина и без Кузнецова, и, как мне кажется, это не могло не волновать Кузнецова. Также известно, что после войны Сталин и Берия громили наркомат Кузнецова. Кузнецов был отстранен, был суд чести, был реальный суд и во всех этих делах очень неблаговидную роль играли Исаков, Октябрьский и особенно Кулаков. Эти обстоятельства легли призрачной тенью на мемуары всех действующих лиц. Но все-таки правда в том, что в мемуарах столько неправды, что эта психология существенно не мешает, но, конечно, не помогает разобраться в реальном существе дела. И тем не менее без психологических отмычек ну никак не обойтись. А как интересно пишет дочь Октябрьского Римма о переживаниях ее отца о первом налете! Этими переживаниями, по книге дочери, Октябрьский мучился всю жизнь. У меня создалось впечатление, что сам Октябрьский так до конца жизни и не понял, что же это было. И что интересно, в связи с этим вспоминает такие же свои душевные терзания во времена инцидента на озере Хасан на Дальнем Востоке. Он тогда командовал Амурской военной флотилией и был под командованием у маршала В. К. Блюхера. Блюхер не разобрался в обстановке, запутался в указаниях Москвы, НКВД и собственном понимании, хуже того – определил свое понимание как главное, очевидно, потеряв ориентацию от сверхполноты власти, данной ему на Дальнем Востоке, был арестован и забит насмерть следователями на допросах в НКВД. А вот Октябрьский вел себя осторожно и не спешил, не торопился выполнять ничьих указаний, а оглядывался, осматривался и советовался. Подробностей нет, но есть абсолютные факты. Блюхер – забит до смерти, а Октябрьский получает назначение на должность командующего Черноморским флотом. Связь мучительных терзаний Октябрьского с налетом на Севастополь и событиями на Дальнем Востоке – это сюжет для отдельного романа, но для нашего случая имеет большое значение, забывать об этом нельзя, да и невозможно. И я при первой возможности постараюсь сделать на этом материале отдельный очерк».
«Да, – повернул голову к Эду Карамзин, – это интересно! Психология, конечно же, несомненно, важный инструмент в истории и, особенно, в жизни на войне. Да, друг мой, послушай меня. И знания психологии, и знание фактов, которые мы находим в мемуарах и документах, не дают полного понимания и не ведут к окончательной истине. Психология – это очень зыбко, тут одни вероятности. Мемуары – тенденциозны и полны неправды, но ведь то же самое – и в документах. Мы знаем много планов, директив, приказов, а в реальности все по-другому! И в нашем случае с Директивой №1 на Черноморском флоте не выполнен ни один пункт. Мы знаем, что все происходило не по директиве, но мы пока так и не знаем, а что же все-таки происходило и как? Сколько лучей, и каких, должно упасть на линзу нашего интереса к событиям, чтобы зажегся огонь истинного знания? Как ни удивительно, но пока, как мне кажется, ближе всего к истине о войне подошли не философы и психологи, не историки профессиональные и не писатели, воевавшие и не воевавшие, а местные краеведы. Но это тоже – сложная отдельная тема и мы когда-нибудь к ней вернемся, а пока – как там дела у Адлера?»
«Знаешь, Георгий, у него дела пошли как-то быстро и хорошо. На мысе, слева от бухты Омега, рядом с украинским военно-медицинским центром, он нашел недостроенную грязелечебницу, выкупил ее с помощью родственников, достроил и оборудовал, и развернул частный психоневрологический диспансер с небольшим стационаром. И представь себе, уже набрал первых пациентов и замаскировал его под центр здоровья. Там он и проводит приемы по лечению и консультациям. Приглашает и нас», – улыбнулся Эдуард.
«Надеюсь, что до этого вы не дойдете!» – вмешалась Элеонора Романовна. Друзья рассмеялись и, забыв об Адлере, продолжили разговор.
«Да, Эдуард, мы же помним, как начинал будоражить наше военно-историческое сознание Виктор Суворов. Он заявлял и всегда подчеркивал, что в своих изысканиях использует только открытые мемуары и открытые советские источники. А время поисков правды в новых обстоятельствах открыло нам, что в этих мемуарах и в этих источниках столько тенденциозного, а порой и столько лживого, а временами – и явно сконструированного обмана, что воссоздавать на такой основе историческую реальность нельзя. Возникла необходимость новых подходов, в ином понимании. И сам Суворов, и редакция последнего издания его „Ледокола“ совсем не та, что 20 лет назад. Мы наивно возмущаемся, что в разных редакциях „Воспоминаний и размышлений“ Жукова многое излагается и толкуется по-разному, а ведь это началось не с Жукова. Вот и в нашем случае, в разные годы изданные мемуары Бориса Борисова – вроде бы об одном, а написано по-разному. Так же и у нашего земляка артиллериста-зенитчика Игнатовича. А сравни, как звучат одни и те же факты в разных книгах адмирала Кузнецова?! Все они вальсируют под музыку, которую сочиняли не они. А дирижеров они просто боялись. И были редкие, ужасные в своей простоте факты, когда то, что хотел сказать человек, солдат, офицер, генерал, просто и откровенно запрещалось. И вот для нашей темы – именно такой случай. Мемуары и переписка генерала-майора артиллерии Ивана Сергеевича Жилина, командирующего ПВО Черноморского флота в июне 1941 года, нигде никогда не публиковавшиеся, но именно они во всей полноте, как никто и нигде более, просто и бесхитростно рассказывают нам о том, что же происходило и как ранним утром 22 июня 1941 года в Севастополе».
Друзья не спешили расставаться. И Победимцев как-то взволнованно заговорил: «Послушай, Георгий, наше расследование превращается в какой-то остросюжетный детектив. Неожиданные открытия с маневрами флота, а это – совсем не маневры флота, непонятное поведение главных командиров и их внезапное исчезновение. Появление на сцене Лаврентия Берии. Загадки с боеготовностями. Время налета. Силы налета. Глухое молчание некоторых явных очевидцев и многое-многое другое. Не многовато ли для одного, в общем-то, небольшого эпизода во всей огромной картине войны? Но ведь здесь наш главный вопрос. Когда, где и как началась война? И как она началась – это одно, а вот как ее хотел начать Сталин – это другое. Признаюсь тебе, Георгий, я заглянул в этот эпизод несколько дальше от Севастополя, и сквозь туман времени мне кажется, что я вышел на те ответы, которые до меня еще не дал никто. Но я очень люблю вас, моих друзей, и хочу, чтобы к истинным ответам о начале войны мы пришли все вместе».
«Спасибо, Эд, – тихо промолвил Карамзин, – в искренности твоих чувств мы никогда не сомневались! Вот, что я хочу сказать напоследок. Мое беглое знакомство с материалами фонда генерала Жилина очень сильно ударило по моему сознанию. Там все, ну почти все – не так, как у других. И у меня возникло предложение: давайте-ка по материалам фонда Жилина соберемся вместе и обсудим их тщательно и подробно».
«Согласен, – отвечал Победимцев, – и к этому, кстати, есть повод. Вы, товарищ полковник, замечены в том, что никогда не помните даты рождения ваших друзей. А на днях – день рождения нашего друга Владимира Ивановича Орлова, и я уже получил приглашение. А Вы, когда вернетесь домой, тоже получите его приглашение, включив компьютер. Кстати, и Володя сам заметил, что лучшим подарком к его дню рождения будет обсуждение в течение дня всех обстоятельств налета, а банкет с родственниками, друзьями и прочими приглашенными можно перенести на вечер». «Очень хорошо, очень хорошо!» – ворчал Карамзин.
Из ночного тумана прорезался тусклый свет над подъездом Победимцева. Георгий поцеловал в щечку Элеонору Романовну, полуобнял Эдуарда и друзья расстались до новых встреч, до новых впечатлений.
Георгий, проводив Победимцева, быстро дошел до своего дома. В спортивном темпе преодолев лестничные проемы, по старой привычке для тренировки сердца, Георгий бесшумно проник в квартиру. В квартире были тишина и покой. И только вытаращенные от яркого внезапного света глаза кота Котофея встретили Георгия в тихой гостиной. Кот, что-то мурлыча, отправился на водопой и по другим делам. И больше явления кота народу не происходило, а Георгий, быстро управившись с вечерними процедурами, уютно устроился в своем родном кабинете на своей прекрасно обжитой лоджии. Природа тут же отреагировала на появление Георгия: зашумел тополь за окном от возникшего ветра, и по стеклам неожиданно забарабанили капли дождя. Но то не мешало, совсем не мешало. Георгий очень любил такие ночные часы и, расслабившись, упоенно погрузился в поток сознания. Это неплохо, что Эдуард заинтересовался психологией войны, ее главных вождей. Но это не может быть главным. Не психология лидеров определяет течение исторических событий. Хотя и это тоже, но не главное, не главное. И в мемуарах понятно, что авторы из тщеславия украшают свою роль в исторических событиях, иногда, как у Жукова и у Кузнецова, чрезмерно. Но и это не может быть определяющим. Все это увлекательно, интересно, будоражит воображение, конечно же помогает понять наиболее глубже, но сейчас необходимо сосредоточиться на другом. Создается впечатление, пока неясное, что в маленьком эпизоде большой войны скрывается какая-то огромная тайна. Кто знал все? Далеко не все! Кто знал многое? Совсем немногие! Отбросим все вероятности, сосредоточимся только на очевидном. Разворачивались, сосредотачивались огромные массы войск. Вторые эшелоны приграничных армий шли к границе. Развернули второй стратегический эшелон. Создавался третий. Раскрутили огромный маховик военной промышленности. То, что это делалось в тайне, нормально и очевидно, но объяснения для своего народа и прочего мира были другими. За разговоры о войне с Германией наказывали. Кто знал все? Несомненно, Сталин. Кто мог знать все? Очевидно, Молотов, Берия. Кто те, кто, не зная все, но зная многое, проводили в жизнь решения Сталина? По войне это – Тимошенко, Буденный, Жуков, Кузнецов, Мехлис, Вознесенский. И по своим направлениям – многие другие. Всех других многих ориентировать было не нужно. Их задача – выполнять приказы, любые, какие бы они не были. Командующие округов и флотов в полной мере о замыслах Сталина не знали! Об этом красноречиво говорит обстановка в округах с 18 июня до начала войны и «полный сумбур вместо музыки» в первые часы ее начала. А конкретные упрямые факты выстраиваются так.
21 июня, кабинет Сталина в Кремле. Состав посетителей и время их пребывания даны в журнале посетителей Сталина. Верить или не верить этому журналу? В интернете плавают разные его варианты. Вопрос об ошибках разберем потом, а пока вынуждены принять за очевидное первую публикацию. Не будем задерживаться на искажении фактов Жуковым, Кузнецовым. Во всех деталях это все разберем потом, а сейчас то, что прошло мимо внимания всех исследователей первого дня войны. И знаменитых, и не очень.
Кузнецов приводит в кабинет Сталина военно-морского атташе в Берлине капитана I ранга Михаила Николаевича Воронцова. Зачем? У Сталина в Берлине есть полномочный представитель Деканозов и военный атташе Тупиков. И затем Кузнецов уходит, а Воронцов остается в кабинете Сталина? А значит, и перед Воронцовым все приходят и уходят, а Воронцов сидит и, наконец, когда уже никто не приходит, Воронцов все еще в кабинете Сталина, а с ним – только Молотов и Сталин. Наконец, последними из кабинета уходят в 23.00 Сталин и Берия. Здесь тайна, которую пока никто не раскрыл. А дальше действие перемещается в наркомат обороны на улицу Фрунзе, ныне Знаменка, где Тимошенко и Жуков без Буденного колдуют над Директивой №1. Разбор этого колдовства потом, а сейчас – по главной дороге. Кузнецов не пишет нигде и никогда, что он 21 июня был вместе с Воронцовым и другими в кабинете Сталина, не пишет и о том, что он там был вместе с Тимошенко, и они вместе с Тимошенко вышли из кабинета Сталина в 20 часов 20 минут, а Воронцов остался. Это тщательно скрывается, мало того – маскируется, так как в своих мемуарах Кузнецов пишет, что Воронцов в 20.00 был у него в наркомате, и они говорили о делах в Берлине. Вдруг, по Кузнецову в 23.00 – звонок Тимошенко. Он говорит: «Есть новости, зайдите!» А какие новости? Они только что были у Сталина и расстались. Кузнецов описывает, как Жуков с шифроблокнотами работает над Директивой №1. Это как? Директива уже доработана самим Сталиным! Что в ней дорабатывать и изменять? Дальше – феерия. Нет, феерию надо остановить!
Ветер шумел, дождь усиливался. Сознание затухало. И Карамзин уснул.
ГЛАВА 4. ЗАГАДОЧНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ, ОН ЖЕ – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ И. С. ЖИЛИН
Севастополь в сентябре. Загадочный полковник. День рождения Орлова. Разбор фонда Жилина. Банкет. Неожиданный концерт. Муки Карамзина по фонду Жилина. Интермеццо одинокого самолета.
Как-то неожиданно в Севастополе наступил сентябрь. По среднерусскому, да и по среднеевропейскому календарю, сентябрь – осенний месяц, но никакой осени в Севастополе и Крыму не ощущалось. Небо было чистое-чистое, синева и лазурь. Солнце – ярко-желтое, а вечерами темно-красное и никаких туч: ни при восходе, ни при закате. Море такое тихое-тихое. Менялась природа, менялась и демография. Дети и школьники рассредоточились по садам и школам, но на городских улицах и городских пляжах людей меньше не становилось. Даже люди были уже несколько другие, чем в буйном июле-августе. В один из таких золотых дней сентября, у себя на даче, на втором этаже веранды-мансарды, возлежал в шезлонге его высокоблагородие полковник Советского Союза в глубокой отставке, Георгий Михайлович Карамзин. Он меланхолично жевал травинку с собственного огорода. И не спеша, в который раз, с наслаждением обозревал окрестности и виды Фиолента.
Слева, почти на юг – мыс Фиолент, с остатками укреплений восемнадцатой батареи второй обороны 1941—1942 гг. и с остатками ракетной позиции периода «холодной войны». Прямо на запад – величественная панорама обрывистых скал и утесов и безграничная даль моря. Справа, на северо-запад, бухта Дианы, грот Дианы, мыс Лермонтова, а дальше, где-то, через какие-то 10—12 км, и без бинокля, через марево утренней дымки – 35-я береговая батарея и, замыкая северо-западную часть панорамы, мыс Херсонес со старинным Херсонесским маяком! Но не только местные виды услаждали и ублажали душу Карамзина. В памяти, в сознании витали и кружились воспоминания о дальних берегах. Курсом на юг, юго-запад – Турция, великолепный сказочный Босфор, незабываемые впечатления. В Турции Георгий впервые убедился, что книги, кино и телевизионные картинки ничего не значат по сравнению с личными впечатлениями. В составе делегации Севастопольского Международного Черноморского клуба (МЧК) с участниками из других городов – Греции, Украины, Италии, России – Георгий объехал почти всю Турцию. В те годы Международный Черноморский Клуб возглавлял мэр Таганрога Александр Шилов, спустя несколько лет его расстреляла в родном городе местная мафия, и МЧК как-то медленно распался. И хотя деятельность МЧК не привела в Севастополь больших инвестиций, но сколько было радужных надежд, великих планов, интересных встреч. Каждый год – конференция в каком-нибудь приморском городе: Триест, Измит, Салоники, Констанца, Одесса, Ялта, Азов. Вспоминая обо всем этом, Георгий вздохнул. Сейчас, к 2013 году, все как-то посерело, никаких радужных надежд. Суровая борьба на выживание. Далее, на юго-запад, – Болгария. Два раза с женой Ольгой Сергеевной, один раз – как советский турист, другой раз – как предприниматель, Карамзин на короткое время посетил Болгарию. Хорошая страна для отдыха. Днем – терпкое вино «Гамза», вечером – прекрасный коньяк «Солнечный берег». Запомнились поездки в Балканские горы, на Шипку и другие места освободительной русско-турецкой войны. Но память о Болгарии омрачалась всей последующей историей: цепью предательств и измен – Первая мировая, Вторая мировая, да и сегодня – Европейский союз, НАТО. Никак не друзья, никак не товарищи. Прав был Достоевский: не стоило класть русские жизни во имя неблагодарных болгар. Далее, перед мысленным взором Карамзина, – Румыния (Констанца, Плоешти, Силистрия, Галац)…
Победимцев сообщает, что у него уже готова большая подборка материалов о том, что Черноморский флот в первый день войны начал боевые действия – не с вероломно напавшей на нас Германией, а с нейтральной к нам на 22 июня Румынией. Итак, Карамзин размышлял и жевал травинку, но то, что он жевал травинку, вовсе не означало, что на даче не было ничего. Усилиями семьи Карамзиных на даче было почти все, что давала благословенная крымская земля. Отошли абрикосы, подошли персики, созрели инжир и миндаль. Уже попробовали ранние сорта винограда. Заботами Ольги Сергеевны не прекращался конвейер клубничный, и Карамзин, отбросив травинку, спустился в гостиную к утреннему чаю. Но его намерения остановил телефонный перезвон, звонил Орлов. Карамзин закрутил головой: «Да, конечно, день рождения! Вчера вечером помнил, а сегодня забыл!» И, взглянув на часы, Георгий поспешил на сборы. Подарок был подготовлен. Цветов нарезать – секундное дело, а вот что надеть? Георгий стал лихорадочно перебирать свой дачный гардероб. Но в это время вновь раздался звонок, и Эдуард сообщил, что Мария Степановна, жена Орлова, просила их не наряжаться. Никаких там галстуков и пиджаков, а все – как можно проще, так как программа дня не предусматривает торжественных мероприятий и посещений, а предполагает морские купания и прогулки, бродяжничество по садам и лесам и торжественный ужин. Карамзин успокоился. Вытащил футболку цветов русского флага, надел бриджи цвета «фельдграу» и в руки ему попала какая-то сомнительная обувь. Это оказался подарок Ольги Сергеевны по какому-то случаю, подошва и две веревочки. Но цена подарка смущала старого полковника. Где-то под тысячу долларов. Такое явление европейской моды, по такой цене, не укладывалось в сознание скромного пенсионера. Но думать и выбирать было уже некогда. На улице у ворот дачи звенел голос Эдуарда. Георгий, стремительно схватив секатор, быстро нарезал букет цветов. Опять же, благодаря заботам Ольги Сергеевны, здесь было полное разнообразие: розы разных цветов и оттенков, красные гладиолусы и полтора десятка разноцветных астр. С благодарностью вспоминая жену, Георгий был очень доволен охапкой цветов, оказавшихся у него в руках. «Не с пустыми руками приедем», – думал он, закрыв окна и форточки, заперев двери и ворота, Георгий вышел к машине. У машины веселым пионерским салютом Георгия встретил сын Орлова – Игорь. На переднем сиденье нервно вращался, с каким-то длинным свертком на коленях, Эдуард. Игорь помог Карамзину разместить на багажной полке цветы и взял у него пакет с каким-то нелегким, килограммов на шесть, грузом. Это был подарок. С подарками у Карамзина давно и окончательно сложилось твердое мнение. С юных лет усвоив афоризм «Книга – лучший подарок», Георгий всегда и всем дарил только книги, не обращая внимания на вкусы и пристрастия «новорожденных». И сегодня это был огромный фолиант «История дворянских родов России».
У Орлова фамилия громкая, а в фолианте несколько страниц – об этой фамилии. Глядишь, и отыщет в своем генеалогическом древе какие-нибудь новые ветви. Совсем по-другому относился к подаркам Эдуард Максимович Победимцев. Он не любил дарить. Он любил удивлять. И сегодня, как оказалось, в брезентовое покрывало была завернута немецкая штурмовая винтовка образца 1941 года, добытая на линии фронта под горой Гасфорта. Такими археологическими артефактами граждан Севастополя не удивишь. У соседа Карамзина по даче в предбаннике на стене висит немецкая стальная каска с рваной осколочной пробоиной. По гаражам и дачам встречались и советские, и немецкие винтовки, автоматы и пулеметы военных лет в различной степени сохранности. У Володи Стефановского в приемной его офиса долгое время стояла на колесах легкая пушка времен первой обороны Севастополя. Но, более всех повезло команде Геннадия Рябчикова: с потопленной нашими подводниками немецкой самоходной баржи они подняли немецкое штурмовое орудие. Ночью привезли его к себе на стройдвор и в течение месяца довели его до коллекционной кондиции. Коллекционер из ФРГ нашелся быстро. Сумма дохода до сих пор неизвестна, но оно и понятно. Ведь дело-то криминальное. Законом такие сделки в тени от государства запрещены.
Быстро разместившись в автомобиле, друзья по старой прибрежной дороге двинулись на Балаклаву. Проезжая мимо Георгиевского монастыря, наши друзья услышали колокольный звон: монахи служили заутреню. Монастырь постепенно возрождался. Вот уже и заработала колокольня, и в утренний, и в вечерний час «малиновый» звон придавал этому месту романтическое очарование. Промчались мимо заброшенной «школы оружия» и по очень старой дороге шли несколько минут вдоль берега. Эти живописные места севастопольцы почти не посещают. Берег крутой, высокий, необустроенный, но Карамзин верил, что и на эти благословенные места от Георгиевского монастыря до Балаклавской бухты когда-нибудь прольется золотой дождь инвестиций. На высоте Горная без всякой просьбы, зная привычки друзей, Игорь Орлов остановил машину: не в первый раз шли они этим маршрутом. Высота Горная – последняя высота на Западной окраине Крымских гор. Друзья вышли, положили несколько цветов на плиты постамента воинов Приморской армии. Это была традиция. А затем, также по традиции, несколько минут стояли на самой высокой точке, думая и молясь каждый о своем. Погода была чудесная, вид был прекрасный. Прямо в центре – панорама Севастополя с сияющим крестом Свято-Владимирского собора. На северо-востоке – величественный мемориал Сапун-горы, с сияющим крестом часовни Святого Георгия, прямо на востоке – величественные виды Балаклавских высот. Прямо под высотой, в Балаклавской долине среди виноградников виднелся белый обелиск. Это – памятник бригаде английской легкой кавалерии, состоявшей, как пишут историки, из представителей лучших аристократических семей Великобритании. Русские солдаты-артиллеристы, без всякого уважения к аристократическим корням британцев, безжалостно и уверенно расстреляли почти всю бригаду. И в Англии до сих пор льют слезы об этом печальном для них событии. Справа, далеко на востоке, на фоне лазурного неба четко смотрелся силуэт Генуэзской башни, символ Балаклавы, на высокой отвесной скале над входом в Балаклавскую бухту. Бухту, по преданию воспетую Гомером в его всемирно-известной поэме «Одиссея». Друзья вздохнули, молча, проникновенно посмотрели друг на друга, как будто вместе таинственно приобщились к какому-то святому причастию. Сели в машину и через десять минут были в Балаклаве у ворот «замка графа Орлова». Несмотря на довольно-таки ранний час, у ворот во дворе усадьбы было уже около полтора десятка машин, а дом звенел голосами родственников, гостей, сослуживцев и многих других друзей Владимира Ивановича Орлова.
Эдуард и Георгий тихо, без звона и шума, не привлекая к себе внимания, проникли в дом, и Георгий в первую очередь отправился к хозяйке дома – Марие Степановне, нашел ее в гостиной и, не церемонясь, вручил ей огромную охапку цветов. Чего там церемониться? Столько лет знакомы. Не дожидаясь окончания «ахов» и вздохов благодарности, Эдуард и Григорий скромно встали в очередь для поздравления. В это время Владимир Орлов обнимал какого-то очень пожилого седого человека, называл его «мой генерал» и проливал слезы на его рубашку. Из невнятных слов Орлова можно было понять, что это – его начальник-сослуживец по Дальнему Востоку, один из руководителей боев на острове Даманском. Скоро дошла очередь и до друзей. Георгий Михайлович вытащил из пакета свой фолиант и, не удержавшись, произнес свою речь о возможных аристократических корнях Орлова. А тот, вытирая слезы, теперь уже от смеха, обнял Карамзина и, продолжая смеяться, переключился на Победимцева. Эдуард, не разворачивая своего брезентового свертка, молча, серьезно и торжественно протянул его Владимиру Ивановичу. Орлов, зная причуды Победимцева, так же молча, не задавая вопросов, передал сверток своему другому сыну Всеволоду. «Да, – думал Эдуард, отходя от Орлова, – штурмовая винтовка – подарочек, конечно, не для городской квартиры. Но у Орловых усадьба – дай Бог каждому, и место для такого подарка найдется». Торжественная церемония вскоре закончилась. И в центре события появилась Мария Степановна в простом холщовом одеянии, подчеркивая этим непритязательность и простоту отношений. Все были приглашены в сад на фуршет с легким вином и легкими закусками. Здесь было сделано несколько объявлений. Вечером на закате был объявлен торжественный званый ужин. А на день всем и каждому были предложены различные развлекательные программы: кому – город, кому – пляж, кому – поход в лес, кому – морские прогулки. Пили мало, но позавтракали все с удовольствием. И, разобрав по пакетам фрукты и бутерброды, родственники и гости разошлись по предложенным программам. И очень скоро в доме стало очень тихо. Друзья, как и многие, совсем не выпили вина, для этого будет вечер. А что касается программы, то она у них тоже была, но какая-то совсем не для отдыха. Так было решено заранее. Друзья решили весь день до вечера посвятить внимательному, спокойному, совместному разбору фонда воспоминаний Ивана Сергеевича Жилина, командира ПВО главной базы ЧФ и крымского участка ПВО в 1941 году. К радости родителей, сыновья Григория и Владимира, Игорь, Олег и Всеволод, не заинтересовались развлекательной программой, а захотели опуститься в глубины военной истории.
Все направились в гостиную. Но в это время сын Орлова, Всеволод, что-то взволнованно зашептал на ухо отцу. Орлов, извинившись, вместе с сыном стремительно двинулся в сторону одного из флигелей. Там на высоком крыльце уютно расположился пятнадцатилетний внук Орлова – Слава. Развернув брезент, он перочинным ножом что-то вычищал из немецкой штурмовой винтовки. Винтовка была немедленно отобрана, Слава отправлен в одну из групп отдыхающих, а Орлов так, с винтовкой под мышкой и с брезентом в руках, появился в гостиной перед высоким собранием историков-дилетантов. И члены клуба, и приглашенные уютно расположились вокруг большого круглого стола, на котором Карамзин уже приготовил и ноутбук, и документы. В это время в полуоткрытых дверях появился еще один экземпляр академического собрания – шпиц Лаврентий. Оглушенный недавним шумом и гамом, он наконец-то пришел в себя и объявился перед строгими очами хозяина. У Лаврентия в гостиной в углу было свое постоянное законное место – бархатный невысокий пуфик, и Лаврентий, никого не спрашивая, спокойно устроился на свое место. Орлов, наблюдая за вполне приличным поведением семейного любимца, решил его не трогать и разрешил ему остаться в высоком академическом собрании. Все другие не возражали.
«С чего начнем?» – спросил Карамзин. «Я предлагаю, – сразу встрепенулся Победимцев, который по обыкновению пребывал в возбужденном состоянии, – начать сразу с мемуаров. А всю его переписку с Кузнецовым, Кулаковым, военными журналами – разберем потом». Все согласились. Докладчиком научной конференции был определен Карамзин. Ученым секретарем с записью и оформлением протокола был определен Победимцев. Тем более что перед ним на столе лежала толстая тетрадь, а в тонких нервных пальцах трепетала ручка. Ученый совет с правом задавать вопросы по ходу доклада представлял Орлов.
«Итак, товарищи-офицеры, – в быстром темпе, не теряя времени, начал Карамзин, – перед нами мемуары, воспоминания генерал-майора артиллерии Ивана Сергеевича Жилина, в то военное время – полковника. Сначала – несколько предварительных замечаний. Иван Сергеевич Жилин – непосредственный свидетель, очевидец того, что произошло ночью и ранним утром 22 июня 1941 года в Севастополе. Генералу Жилину в истории героической обороны Города-героя крайне не повезло. Он забыт. В отличие от других героев, в городе нет ни площади, ни улицы, ни переулка, носящих его имя. На доме, где он жил, расположенном на ул.4-я Бастионная, нет мемориальной доски. А в штабе ПВО на Историческом бульваре так же нет в наличии никакого памятного знака о генерале Жилине. Это – о нем самом. А теперь – о системе ПВО в РККА и РККФ – на июнь 1941 года. Система ПВО армий и флотов до июня 1941 года входила в состав этих армий и флотов. Но в 1941 году было создано Главное управление ПВО, которое возглавил командарм Штерн, который вскоре был арестован и расстрелян. Полковник Жилин был по должности начальником ПВО Черноморского флота. Он же правильно в мемуарах называл себя начальником ПВО главной базы ЧФ, при этом следует помнить, что у флота были базы в Одессе, в Николаеве, в Очакове, в Феодосии, в Керчи, в Новороссийске и в Поти. И противовоздушные силы всех этих баз также подчинялись Жилину. Но кроме того Жилин исполнял должность начальника ПВО всего Крыма. И по смыслу этой должности подчинялся Главному управлению ПВО РККА. А по линии флота, через заместителя командующего ЧФ по авиации генерала Русакова, он замыкался на управление ПВО Главного морского штаба, которым, как мы помним, командовал адмирал Исаков. Все это очень важно знать, так как все действия полковника Жилина определяются именно таковым его положением. А вот теперь – о мемуарах. Они небольшие, всего девять машинописных страниц. Они у вас есть, и зачитывать их мы не будем. А остановимся и обсудим самые характерные моменты. День, вернее, ночь 22 июня, Жилин встречает дома, после банкета в Доме офицеров армии и флота. Ему не дает заснуть его начальник штаба майор Перов, который сообщает ему, что по главной военно-морской базе объявлен „Большой сбор“. Но что Иван Сергеевич может не беспокоиться, мол, Перов сам справится. Однако неугомонный Жилин идет в штаб и для ускорения сбора личного состава объявляет боевую тревогу. Имел ли он на это право? Имел, но только в том случае, если по всему гарнизону или по всему флоту уже объявлена боевая тревога. Далее – очень интересный факт. Жилин не устраивается в штабе, а поднимается на крышу, на НП, так называемую „вышку“, и беспрерывно находится там два часа, до самого начала событий. Как будто он знал, что события будут, и он их дожидался. Но, что хорошо у Жилина, так это то, что и в воспоминаниях, а потом – и в переписке, он дает четкую временную хронологию, а она временами резко, очень резко противоречит тому, что написали другие. Иван Сергеевич описывает два очень сомнительных разговора. Один – с начальником штаба ЧФ адмиралом Елисеевым, а другой – с начальником штаба авиации Калмыковым. Оба они – прямые начальники Жилина, но прямых указаний они ему не дают, якобы отделываясь совершенно невразумительными фразами „действуйте, как знаете“. Такие разговоры в Красной Армии образца 1941 года были невозможны. И далее Жилин выдает совершенно невероятный пассаж. На основе этих разговоров он лично, единолично принимает решение и отдает приказ о том, чтобы все появившиеся в небе над главной базой самолеты считать вражескими и открывать по ним огонь. Опять же, подчеркнем, что в условиях 1941 года такое решение полковника Жилина следует считать абсолютно невозможным. Только что расстреляно все прежнее командование Черноморского флота, репрессировано и расстреляно все командование ПВО РККА. 19 июня прошли массовые аресты большой группы старших офицеров Красной Армии, особенно – авиационных. Особые отделы выведены из состава РККА и подчинены наркомату госбезопасности. И в таких условиях полковник Жилин принимает такое решение, тем более что на 22 июня не отменен приказ наркома обороны о том, что нельзя сбивать немецкие самолеты, пролетающие над нашей территорией. Этот приказ подкреплен начальником ПВО ВМФ, и у Жилина этот приказ есть, он про него знает. Далее Жилин обстоятельно описывает все детали первого налета. И здесь загадки громоздятся одна на другую. В 03.10 посты ВНОС от Херсонесского маяка сообщают ему о шуме моторов неизвестных самолетов. Но странное дело, Жилин ничего не пишет, но мы-то об этом знаем из других источников – о сигналах ПВО с острова Первомайский, о сигналах РЛС с мыса Тарханкут, о сигналах евпаторийских постов ВНОС и с постов на мысе Сарыч. И опять же – загадка: Жилин никому ничего не докладывает и ни у кого ничего не спрашивает. А далее то, что невозможно себе представить! В лучах вспыхнувших прожекторов Жилин видит не что-нибудь, а 4-моторный бомбардировщик».
При таких словах Карамзина с дальнего конца стола из глубокого кресла вскочил Эдуард Победимцев и взволнованно заговорил: «Этот бомбардировщик мне всю ночь не давал спать! Я провел всю ночь в интернете, в составе немецких ВВС на июнь 1941 года не было 4-моторных бомбардировщиков! Я обещаю, мои дорогие друзья, еще и еще разбираться с этим бомбардировщиком, но пока заявляю: его не было ни в составе 4-го воздушного флота, ни в составе немецко-румынской воздушной миссии в Румынии!» Победимцев еще несколько минут бушевал, Орлов его успокаивал, а Карамзин продолжил открывать загадки из воспоминаний Жилина: «От самолета отделяются четыре точки. Жилин определяет их как парашютные донные мины. А несколькими строчками ниже сам же пишет о парашютистах. Самолет, по Жилину, в лучах прожекторов совершает противозенитный маневр и пропадает. Пропадает из мемуаров Жилина, пропадает из истории, никто и никогда о нем не пишет. Далее вдруг из необъятной черноты севастопольского неба появляются еще два самолета, но это уже «Юнкерсы», по Жилину. Они не идут курсом первого бомбардировщика, а поворачивают к Фиоленту и оттуда ведут атаку через Балаклаву и Максимову дачу – на Южную и Северную бухту. Обстоятельства этой атаки в описании Жилина совершенно неправдоподобны. Вам, товарищ Орлов, я поручаю внимательно войти во все обстоятельства этой атаки и при следующей нашей встрече рассказать нам все подробно». – «Есть, товарищ полковник!» – подчеркнуто послушно ответил Орлов. «По Жилину, – продолжил Георгий, – при повторной атаке «Юнкерсы» падают в море. И при этом ни одного немецкого парашютиста. Но затем – совсем уж плохо, дорогие мои товарищи, Жилин делает попытку объяснить, почему в отражение налета не вступает истребительная авиация Черноморского флота. Здесь необходимо дать его прямую цитату: «Части истребительной авиации в отражении первого внезапного налета участия не приняли, так как в дежурных звеньях отсутствовали летчики-ночники, то есть летчики, подготовленные к действиям в ночных условиях. В частях они были, но после флотских маневров им был предоставлен отдых, поэтому дежурное звено было поднято в воздух с рассветом в 03 ч. 47 минут».
Карамзин после небольшой паузы продолжил: «Само по себе это объяснение невероятно и невозможно. Представить себе, что по боевой тревоге какие-то летчики в боевом полку могут отдыхать – это невероятно! Но и по фактическому существу все было не так. Весь 1-й полк 62-й истребительной бригады был укомплектован старыми опытными пилотами призыва 1938—39 годов. И все они умели летать и ночью, и при плохой погоде. А уставать летчикам было не от чего, так как истребительная авиация флота в маневрах не участвовала. Да, авиация должна была прикрывать высадку десанта, но поскольку десант провалился, то на его прикрытие авиация не прилетала. Обо всем этом подробно написал летчик-истребитель Николай Денисов, в то время старший лейтенант, командир эскадрильи. По его воспоминаниям, никто из „ночников“ не спал, моторы были прогреты, пулеметы проверены, а команды на взлет не было. И действительно, только на рассвете, но не в 03.47, в это время никакого рассвета не было, а была абсолютно темная глухая южная ночь. А где-то на рассвете, точное время нам неизвестно, эскадрилья Денисова поднялась в воздух, но в районе Севастополя никаких вражеских самолетов не обнаружила и благополучно вернулась на аэродром под Евпаторию. Почему в отражении не участвовала истребительная авиация флота – это одна из главных загадок той таинственной ночи. Ведь кроме Жилина было кому отдавать приказы. Появился и начальник авиации генерал Русаков, на месте командующий флотом адмирал Октябрьский, да и весь военный совет флота в полном составе на месте. Но никто никаких команд на подъем авиации в воздух не дает. И никто об этом не напишет. Этот вопрос все, абсолютно все мемуаристы обходят молчанием. Значит, могли быть силы, которые были сильнее командования флота… Товарищ Победимцев, – обратился Карамзин к Эдуарду Максимовичу, – подробно вникнуть в этот вопрос мы поручаем вам», – «Есть, товарищ полковник! – ответил Победимцев, – у меня уже готов ответ, но я доложу его позже, в сопоставлении с целым рядом других загадочных обстоятельств».
«Хорошо, – спокойно ответил Георгий Михайлович, – больше для нас в мемуарах Ивана Жилина ничего нет. Но очень много интересного, столь же загадочного, как в мемуарах, – в его переписке. А пока разрешите подвести итоги по воспоминаниям Ивана Сергеевича Жилина, начальника ПВО ЧФ в июне 1941 года, написанным в 1960 году.
Итак, полковник Жилин всю ночь до 04.35 утра – на НП и чего-то ждет. Все, что вокруг него происходит, почему-то происходит только в Севастополе. Про Одессу, Феодосию, Керчь и другие базы Иван Сергеевич ничего не пишет. Для меня как взрыв бомб сообщение Жилина о том, что в 2 часа 22 минуты в Севастополе объявлено «угрожаемое положение». Об этом же упоминают и Октябрьский, и Борисов. Рядовые читатели и тогда, и теперь не имели понятия, что такое «угрожаемое положение». А этот вопрос – очень и очень серьезный. Раскрыть всю глубину этого вопроса я поручаю себе. Загадка 4-моторного бомбардировщика нами пока не разгадана. Ну невозможно себе представить, чтобы полковник Жилин мог спутать 4-моторный бомбардировщик с «Юнкерсом» или «Хейнкелем-111». Вопрос об истребительной авиации мы поставили. А вот вопрос о решении на открытие огня по неизвестным самолетам остается открытым. Здесь прошу думать всех. Вот, пока так, дорогие мои товарищи. Я полагаю, что своей напряженной работой мы заслужили пятнадцатиминутный перерыв».
Орлов помчался на кухню. Карамзин и Победимцев вышли в сад, сыновья и внук отправились изучать немецкую штурмовую винтовку. Шпиц Лаврентий, доселе мирно дремавший и разомлевший от жары на веранде, удивленно поднял голову. Ему хотелось быть с хозяином, но не хотелось быть на жаркой кухне, а хотелось в сад, но там отсутствовал хозяин. После минутного мучительного раздумья Лаврентий, страдая от раздвоенности, поплелся в сад, но увидев большую бабочку, немедленно пришел в буйное оживление и стал носиться за ней, не обращая внимания ни на Карамзина, ни на Победимцева. И Карамзин, и Победимцев не обращали на Лаврентия никакого внимания, их занимали совсем другие проблемы. Откуда-то издалека донеслись звуки романса в исполнении Александра Малинина «В полуденном саду жужжание Шмеля…», Карамзин остановился и дослушал хороший романс в хорошем исполнении. Через пятнадцать минут все вновь собрались в гостиной и при закрытых от жары шторах – света хватало – медленно и сосредоточенно приступили к изучению материалов из фонда Ивана Сергеевича Жилина.
Когда после перерыва высокое собрание и приглашенные гости расселись по своим местам, Карамзин спокойно продолжил: «Итак, мы ознакомились с воспоминаниями Ивана Сергеевича Жилина, но в его фонде очень много и других материалов, которые по нашей теме, теме первого налета на Севастополь, очень важны. Факты и обстоятельства в трактовках Ивана Сергеевича очень резко отличаются от всего того, о чем так много написали наши адмиралы и генералы. Итак, по Жилину, мы видим следующую картину. С часа ночи, после банкета в Доме Красной Армии и Флота, полковник Жилин – не в штабе, а на своем наблюдательном пункте на крыше штаба ПВО, на «вышке». А что он здесь забыл? А чего он ждет? В 3.07 ему докладывает рейдовый пост с мыса Херсонес о шуме моторов неизвестных самолетов. Вдруг, без команды Жилина, включаются прожектора, и в их лучах он видит четырехмоторный бомбардировщик, от него отделяются четыре точки, Жилин их характеризует как магнитные мины. Самолет делает противозенитный маневр, так как по нему, опять же без всякой команды Жилина, уже вовсю палят зенитки 2-го дивизиона 61-го зенитного артиллерийского полка вблизи мыса Херсонес. И четырехмоторный бомбардировщик, по Жилину, просто исчезает. При этом никто никогда и нигде об этом самолете не вспоминает. Через десять минут, по Жилину, появляется группа в 5—6 самолетов, уже – двухмоторных бомбардировщиков, и совершает какую-то непонятную атаку. От мыса Херсонес они поворачивают на юго-восток к мысу Фиолент. А от мыса Фиолент они меняют курсы северо-восток и прорываются к центру города, к Южной и Севастопольской бухтам. По пути на пустырях сбрасывают несколько мин, а в 03.40 одна из мин, по Жилину, падает у Памятника затопленным кораблям, а другая в 03.46 падает, как пишет Жилин, «где-то за Пироговкой». Пироговка, как мы понимаем, – это больница имени Пирогова. Вот такой налет в описании Жилина. Следует знать, что по этому маршруту, от мыса Херсонес до мыса Фиолент, находятся три батареи, далее – 35-я батарея, у которой, кроме башенных орудий, есть свои зенитные средства и прожектора; затем – батарея №73 2-го дивизиона в районе поселка Автобат. А на самом мысе Фиолент – 18-я батарея береговой обороны, у которой так же есть свои зенитные средства, прожектора и прочее. А затем – такая же 19-я батарея – на утесах Балаклавы. И ни одна из всех этих батарей не проявляет никакого участия в отражении налета. И только 3-й дивизион 61-го ЗАП, по Жилину, открывает заградительный огонь. Расположение 3-го зенитного дивизиона на Максимовой даче – само по себе загадка. От Максимовой дачи зенитки не прикрывают ни западные подходы к севастопольским бухтам (там 2-й дивизион), ни воздушные атаки с севера (там 1-й дивизион). Так что прикрывает 3-й дивизион на Максимовой даче? К этому мы подойдем позже.
А пока – идем по Жилину. Он ничего не пишет о сбитых немецких самолетах, ни о падающих, ни о горящих. Но зато он дает нам пеленг на ту точку, в которой четырехмоторный бомбардировщик якобы сбросил четыре мины. Далее очень любопытны некоторые объяснения, которые дает Иван Сергеевич по разным обстоятельствам налета. Он приводит странные разговоры до налета с начальником штаба ЧФ адмиралом Елисеевым и начальником штаба авиации ЧФ полковником Калмыковым. Оба начальника ничего конкретного ему не говорят, а на все тревожные ожидания Жилина дают ему право на самостоятельные решения, что в условиях Красной Армии и Красного Флота образца 1941 года совершенно немыслимо. Затем генерал Жилин дает совершенно неприемлемое объяснение на вопрос, почему он не поднял в воздух истребительную авиацию ЧФ, в составе которой, как мы знаем, было около 360-ти истребителей. Генерал Жилин объясняет это так: что вот, мол, летчики-ночники в авиационных полках были, но после маневров флота они устали, и их не трогали. Но летчик Константин Денисов пишет другое, что в эту ночь они не спали, в маневрах флота не участвовали. А подняли их в воздух только утром 22 июня после рассвета. Они пролетели над Севастополем, никого и ничего не обнаружили и вернулись на свой аэродром в Саки. Так что объяснения И. С. Жилина о том, почему он не поднимал в воздух истребительную авиацию, выглядят более чем странно».
Карамзин сделал паузу, протер очки, внимательно посмотрел на своих друзей и продолжил: «В материалах фонда Жилина много писем от его друзей. Его боевые товарищи любят и уважают Ивана Сергеевича. Но в фонде много и о тех, кого Жилин не любит. Он возражает редакторам военных журналов. Он спорит с Азаровым, он обвиняет в неправде Елисеева и Рыбалко. Он до конца жизни резко возражает Кулакову. И даже на склоне лет, уже в 1972 году, в последнем письме Кулакову генерал Жилин не соглашается с его трактовкой событий, а резко и прямолинейно отстаивает свою позицию. Но самую большую неприязнь Ивана Сергеевича вызывает майор Семенов, начальник штаба 61-го ЗАП. Это – тот самый Семенов, которого за одно утро 22 июня обещали расстрелять дважды. Первый раз за то, что он заявил, что не может привести полк в «БГ №1» за один час, а ему нужны сутки. А второй раз ему пригрозили расстрелом за то, что, дозвонившись до штаба флота, он кричит о том, что открывать огонь нельзя, что над Севастополем по докладу наблюдателей – наши самолеты. Это – невероятный факт. Сумеем ли мы его объяснить, время покажет.
Один из боевых товарищей Ивана Сергеевича, полковник Перепелица, в ту ночь оперативный дежурный по ПВО, сообщает своему генералу, что в то раннее утро он был в штабе. Сам ничего не видел, но принимал сообщения. И одно из них было о том, что утром 22 июня наши водолазы сняли с упавшего в море самолета пулемет и доставили его в особый отдел флота. Отсюда можно сделать вывод, что о том, чей самолет упал в море и что это за самолет, в особом отделе знали. И совсем не случайно вечером 22 июня к упавшему в море самолету был направлен буксир СП-12, который тянул за собой 25-тонный кран. И буксир, и кран трагически погибли, но вот об этом эпизоде генерал Жилин ничего не пишет.
Вот какие неожиданные загадки ставит перед нами знакомство с фондом Жилина. Мне в архиве записали все на дискету. Я переправил все вам, мои дорогие друзья. И я надеюсь, что, ознакомившись с материалами, каждый из вас еще чем-нибудь и как-нибудь дополнит мое сообщение. И мы еще раз переговорим о материалах из фонда Жилина при нашей следующей встрече».
Солнце клонилось к закату. Фонд Жилина был проработан и изучен. На кухне звенели оживленные голоса, гремела посуда, в дверях гостиной мелькали женские лица. Карамзин подвел итоги: «Дорогие мои друзья! Благодаря нашему дорогому Аркадию Ивановичу Железнову мы получаем доступ к материалам фонда Ивана Сергеевича Жилина. Мы надеялись, что во всей сумятице материалов, которые мы с вами проработали, материалы фонда Жилина дадут нам истории прозрения правды того, как было на самом деле. Но этого не случилось, мемуары и переписка так же сложны для логического понимания, как и все другие материалы, с которыми мы познакомились. Первый вопрос, на который мы должны дать ответ: почему же все попытки Жилина, его мемуары нигде и никогда не были опубликованы? Казалось бы, такой же патриот, как и все, но вот что есть в его мемуарах, это не нужно никому. Ему не отвечает Кузнецов, его не включает в свои мемуары Кулаков, журналы под разными предлогами отказывают его печатать. Я полагаю, что это потому, что Жилин дает слишком много подробностей, а это никому не нужно, углубление в детали может привести к раскрытию информации, знать которую многим не положено. Но и, конечно, психологический фактор: кругом герои героической обороны, а Ивана Сергеевича в списке героев нет. Даже Кулаков стал Героем Советского Союза. Именами многих названы улицы. Даже в честь старшего лейтенанта госбезопасности Нефедова переименовали в центре улицу Подгорную, а начальник ПВО флота генерал-майор артиллерии Жилин – забыт. Но на примере истории с решением на открытие огня мы видели, как Иван Сергеевич отчаянно пытается приписать это решение исключительно себе самому. Теперь – коротко о фактах, которые нам дает только Жилин. В три утра в небе над Севастополем был один самолет, четырехмоторный, он якобы сбросил над морем четыре мины, не был сбит и пропал не только с неба Севастополя, а пропал из истории. Всем спасибо, и, чтоб уже больше не мешать многочисленным гостям на банкете, давайте сейчас в нашем узком кругу историков-дилетантов поздравим нашего дорогого Владимира Ивановича с днем рождения, обнимем его и пожелаем ему долгих лет в его плодотворной жизни, в том числе – и на ниве военной истории».
Все шумно встали и дружной гурьбой обнимали Орлова. От всего этого шума в своем углу очнулся шпиц Лаврентий, ничего не понял, разволновался, но, почуяв доносившийся с кухни запах, не обращая ни на кого внимания, стремительно рванул в сторону кухни. Друзья распахнули все двери в гостиную, вышли в сад отдышаться на свежем воздухе и полюбоваться видом великолепного заката. В гостиной хлопотали женщины. Пока высокая академическая компания историков-дилетантов прохаживалась и проветривалась в большом осеннем саду, гостиная из академического зала очень быстро превратилась в банкетную. Застолье обслуживала бригада из балаклавского ресторана «Дары моря», и открытие банкета не задержалось.
Но первым в гостиной объявился шпиц Лаврентий. Это невоздержанное существо на кухне умудрилось налопаться всяких праздничных кушаний, и теперь, не обращая никакого внимания на накрытый стол, переваливаясь с боку на бок, Лаврентий добрался до своего пуфика, и, с трудом взгромоздившись на нем, затих, и, кажется, даже не шевелился. И тут же вскоре гостиная заполнилась гостями и родственниками. Мария Степановна отправилась в сад звать к столу друзей. Карамзин и Победимцев, на время забыв о своих исторических изысканиях, восхищались видом плантации хризантем. «Отцвели уж давно хризантемы в саду», – декламировал Карамзин любимый романс своей матери. Но в саду Орловых, похоже, хризантемы никогда не отцветали. Это был великолепный конвейер с позднего лета до начала зимы. Мария Степановна с трудом оторвала друзей от ботанических созерцаний и привела их в гостиную. Все были на местах, и праздничный ужин пошел своим обычным порядком.
Первым с бокалом в руках поднялся седой генерал-дальневосточник. Его речь была о Дальнем Востоке, а тост – и за Орлова, и за всех дальневосточников. Поскольку на Дальнем Востоке из присутствующих мало кто был, речь генерала была заслушана с большим вниманием. Затем с энергичной речью выступил крупный городской чиновник, и в его энергичной речи звучали слова о большом вкладе Владимира Ивановича Орлова в развитие города Севастополя, и особенно – Балаклавы. Было заметно, что и еще некоторые серьезные люди готовили подобные выступления. Но поднялся Владимир Иванович Орлов и решительно объявил, что никаких торжественных од в его честь больше не надо. И, предложив тост за родителей, перевел вечер в другую плоскость.
Вскоре, стоя на стуле, над столом возник четырехлетний правнук Владимира Ивановича – Никита Орлов. Звонким ломаным голосом он продекламировал стихотворение. Мало кто что понял, но гром аплодисментов обрушился на Никиту Орлова.
Из дальнего угла гостиной стали доноситься тихие звуки рояля. Это Иван Бобров наигрывал попурри из дальневосточных песен. Когда аккорды зазвучали громче, все притихли и Иван Захарович Бобров стал исполнять свою музыкальную песенную композицию, сочиненную и посвященную этому вечеру. Иван Захарович не стеснялся заимствований ни музыкальных, ни поэтических. Ведь не для города и мира, а для узкого круга друзей и зазвучали:
«Там, вдали за рекой, засверкали огни,
В небе ясном заря догорала…»
Мало кто знал, что это не советская песня, а старинная казачья, со времен русско-японской войны 1904 года. Сюжет композиции Боброва был построен на том, что старый послуживший пограничник стоит на высоком берегу Амура, смотрит в южную даль Маньчжурии и вспоминает подвиги отцов и дедов. Звучали интонации знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии», отрывки песен из советских кинофильмов, и совсем незаметно проскальзывала мелодия из знаменитой лагерной песни «Ванинский порт». Боброву тоже достались аплодисменты, но они были тихие. Орлов был тронут, но более всех растроган оказался седой генерал пограничник. Вытирая слезы платочком, он так трогательно благодарил Боброва, что и у самого Боброва показались слезы на глазах. Так, оба в слезах, вернулись к столу. На место у рояля вышел севастопольский поэт Андрей Юров. Тихим трагическим голосом зазвучали отрывки из баллады «В огне балаклавских высот», написанной им по мотивам повести писателя-краеведа Николая Диденко. Она была посвящена неизвестному подвигу курсантов балаклавской школы морских пограничников. Школа младшего начсостава готовила спецназ морских пограничных сил НКВД в Балаклаве. Молодые курсанты школы восемнадцати-двадцати лет в первые дни штурма с 4 по 19 ноября 1941 года мужественно сражались с войсками Манштейна на балаклавских высотах. Многие, очень многие погибли, но враг был на время остановлен, и это позволило создать мощный первый оборонительный район на южном фланге севастопольской обороны. Орлов знал об этом подвиге, знал и местность, где шли бои, каждую тропинку, каждый окоп, каждую позицию. Но до разбора этой битвы с друзьями как-то руки не доходили. А вот молодые люди вспомнили, и один написал повесть, а другой – балладу…
Манштейн бригаду Циглера на Балаклаву двинул,
Отборных и проверенных Европою бойцов.
В ноябрь тот зябкий, ветреный, чтобы сдержать лавину,
На их пути встал батальон отчаянных юнцов.
Курсанты балаклавской школы младшего состава…
Представьте, на минуту, сколько было им годков?
Полковник Новиков включил, бойцов не доставало,
В свою дивизию отряд и этих «погранцов»…
Все все понимали, аплодисментов не было. Владимир Иванович подошел к Андрею, крепко обнял его, повернул к столу и предложил тост за молодых ребят, которые чтят память отцов и дедов. Все торжественно поддержали этот тост.
Застолье продолжалось, растекалось на группы по интересам, расползалось по верандам, мансардам. В саду над кострищем шофер Джано вывесил тушу молодого барашка. Каждый второй из гостей полагал себя специалистом по приготовлению мяса в полевых условиях, но, отведав копченой стоганины у Джано, гости задерживались и интересовались технологией и рецептурой. Товарищи и коллеги Орлова по его частному охранному предприятию установили во дворе небольшую пушку, похожую на мортиру времен первой обороны, жерлом в небо, и это маленькое артиллерийское чудо извергало сноп ракет по красоте не хуже, чем салютная батарея Константиновского равелина. Стреляли и ручными ракетами, некоторые ракеты были на парашютах, было светло как днем. Канонада гремела не меньше получаса, но Благодатное было не густонаселенным местом и жалоб не поступало. Ну и как запретить молодым охранникам провести соревнование по стрельбе по пустым бутылкам? На десять выстрелов имел право каждый, но чемпионом как был, так и остался сорокалетний командир взвода Николай Михайлов. Десять из десяти! А шик был в том, что он не разбивал бутылку, а пулей из пистолета сбивал горлышки.
В саду по углам двора, по комнатам усадьбы звучала самая разная музыка. Группа молодежи сбилась в стайку и оживленно обсуждала новость о том, что сегодня в ночном балаклавском клубе «Бармалей» дает концерт «Машина времени». Макаревич держал в балаклавской марине яхту и иногда навещал Балаклаву. Ребятам из «Бармалея» удалось уговорить его на один концерт. И молодежь не хотела пропустить это редкое событие.
Застолье продолжалось. Ближе к полуночи на столе появился огромный торт. Владимир Иванович в белых перчатках, оставшихся от военно-морской парадной формы, лично нарезал каждому желающему порцию торта. Но всему приходит конец. И день рождения Владимира Ивановича Орлова тоже подошел к концу. Среди гостей и шума застолья друзья не вели разговоры о своих любимых темах, не говорили о войне и вообще об истории, а поддерживали общее течение простых и веселых разговоров. Но, расставаясь, по уже привычной, пусть мальчишеской, но дорогой им традиции, выпили на посошок под свои тосты-экспромты: Орлов – «за душу и разум», Победимцев – «за службу и дружбу», Карамзин – «за отвагу и честь». Георгий и Эдуард с дражайшими супругами в сопровождении Владимира вышли во двор к машине, где их уже ожидал шофер Джано. И вдруг все замерли: над морем, над Балаклавой, над Благодатным, над усадьбой Орловых висела огромная белая луна. Вид над морем был великолепен. И внезапно в этом великолепии зазвучал громкий голос Победимцева – Эдуард пел:
«Ночь светла, над рекой тихо светит луна,
И блестит серебром голубая волна».
Друзья знали о способности Эдуарда к пению, но для многих это было откровенной неожиданностью. Все вокруг замолчали. Очень тихо было и в окружающем мире. И только проникновенный голос Эдуарда то громко поднимался, то проникновенно затихал в величественном пространстве южной природы. Романс закончился. С балконов веранд и мансарды от невидимых благодарных слушателей принеслись аплодисменты. Эдуард раскланялся в темноту ночи. Орлов обнял Победимцева, сказал «Спасибо» и прикоснулся головой к его плечу. Победимцевы и Карамзины устроились в машине, и она помчала их в спящий ночной Севастополь.
Первыми на улице Хрусталева вышли Победимцевы. Но пока друзья на прощание обнимались, из подъезда впереди Элеоноры Романовны стремительно появился дог Коба. Его поведение выражало глубокую радость от встречи с хозяином. Эдуард, перестав общаться с Карамзиным, радостно обнимал четвероного друга Кобу. Оставив друзей и их верного старого друга, Карамзины уже через три минуты были у своего подъезда. Поцеловав в щечку и ушко Ольгу Сергеевну, Георгий Михайлович попросил разрешения побыть некоторое время в одиночном прогулочном плавании. Домашний кот Котофей права на ночную прогулку не имел, и неожиданности с его появлением не ожидалось. Оставшись один, прислонившись спиной к одинокому тополю, Георгий очень быстро впал в бурный поток сознания.
Впечатления вечера не затмили впечатлений от изучения материалов воспоминаний генерал-майора Жилина. Ко многим загадкам, загадкам маневров, пропавших Исакова, Черевиченко и других, к загадкам самого налета, прибавилась и загадка личности самого Жилина. Здесь Победимцев прав – мало всматриваться в его воспоминания, надо внимательно всмотреться и в него самого. Жилин спорит со всеми. Всем, абсолютно всем противоречит. Но во многом противоречит и самому себе. И не менее интересно то, что мы знаем, сегодня Жилин молчит. Загадок у Жилина очень много: странный разговор с Елисеевым и Калмыковым, абсолютно невозможный для полковника Красной Армии 1941 года. Самостоятельное решение на открытие огня, а загадочный черырехмоторный бомбардировщик, а его две, а потом – четыре мины? А куда он потом делся? А постоянно мелькающий вокруг него «У-2»? «У-2» – двухместная учебная машина. Впереди – пилот. А сзади – или инструктор, или штурман, или летчик-наблюдатель, или бомбометатель. Представить себе, что командир артиллерийского полка Горский путает «У-2» с тяжелым бомбардировщиком – невозможно! А Жилин убеждает нас, страстно убеждает, что Горский ошибся. А случайный мутный эпизод, когда дежурный с КДП нашего аэродрома криком кричит нашим артиллеристам: «Не стрелять, это наш самолет!» А записи? Записи ЖБД его же штаба? Их что, Жилин никогда не читал? Но даже когда ему об этих записях, спустя тридцать лет, сообщает его же бывший начальник штаба, Жилин не обращает на это внимания и не дает никаких комментариев. Пассаж о том, почему он не поднимает истребительную авиацию, логикой здравого смысла объяснить невозможно. Целый полк ночных истребителей, а их по БГ№1 не поднимали, видите ли, потому, что они якобы устали во время маневров. А маневры закончились 18-го июня, да и авиация флота, как нам сегодня уже известно, в учениях не участвовала. Полковник Жилин – единственный из командования флота, который видит все, что происходит, все – собственными глазами. Но о многом, что он видит, ничего не пишет. Он ничего не пишет о горящих маяках, ни словечка о диверсантах, ни слова о гибели буксира и крана, которые шли поднимать упавший в море сбитый самолет. А сбить его могли только зенитчики Жилина, мог бы гордиться, а он… молчит. Он получает множество докладов о парашютистах, о них радирует в его штаб сам генерал-майор Моргунов и отдает приказ сбивать самолеты, кто их увидит. Но Жилин об этом молчит. Утром весь город гудит слухами о диверсантах в милицейской форме, а у Жилина – никаких комментариев. Городские власти подняли по тревоге все силы местной противовоздушной обороны. Кому как не Жилину управлять этими силами? А для Жилина, по его воспоминаниям, их нет. В систему ПВО флота и его Главной базы включены зенитные средства батарей береговой обороны, а их вокруг города – 18, плюс – малая зенитная артиллерия кораблей бригады ОВР. А зенитные средства кораблей? На одном линкоре – 16 зениток. И всеми этими силами Жилин не только не руководит, он даже о них не вспоминает. И ничего об этом не пишет. Как это все понимать? Как разгадать все эти загадки?
Легкий ночной ветер зашумел листвой тополя. Шумело и в голове Карамзина. Нет, надо отдохнуть, надо выспаться. Надо несколько дней перестать думать о налете, и тогда, возможно, придет понимание того, что было. Оторвавшись от тополя, Георгий Михайлович Карамзин в тяжелом полусонном полузабытьи добрался до квартиры, до гостиной, до родного дивана и рухнул в тяжелый сон…
Наутро Карамзин проснулся в отличном расположении духа. Сентябрьский день оказался очень холодным. За окном медленно ползли тяжелые тучи, ветер порывами бил стекло вместе с дробью дождя и ветками заоконного тополя. Где-то в глубине квартиры Элеонора Романовна вела с кем-то переговоры об очередном мероприятии. Словно почувствовав хорошее расположение хозяина, на лоджии появился любимый кот жены полковника Карамзина – Котофей Феофилович. Он пытался взгромоздиться на колени хозяина, но был отринут и разместился в углу кушетки. Все это создавало творческую атмосферу, и Георгий Михайлович, несмотря на свое вчерашнее решение отойти от темы первого налета, решил наоборот подвести итог по волнующей его теме. Включив компьютер и убрав с экрана супрематические картины, полковник-инженер Советского Союза в глубокой отставке, Георгий Михайлович Карамзин начал четко, черным по белому, формулировать свои мысли. И вот, что у него получилось: «Композиция полковника Карамзина Г. М. по вариантам и обстоятельствам появления в небе Севастополя 22.06.1941 года одинокого самолета».
Прежде чем ударить по клавишам, Карамзин предварительно продумал эту загадку. Ведь не один же Жилин наблюдал за «небом боя». Все видели его зенитчики и прожектористы, оставил свой рапорт командир зенитного полка Горский, описаны метания оперативных дежурных ВВС ЧФ, есть свидетельства о многочисленных утренних толках горожан и бойцов МПВО. И, наконец, есть записи в журналах боевых действий ПВО ЧФ. Итак, первое: это мог быть немецкий пассажирский четырехмоторный «Кондор», который в ночной южной темноте над морем, по пути из Берлина в Стамбул, мог потерять ориентировку и оказаться в небе над Севастополем. Но, посмотрев на карту и немного поразмыслив, Карамзин убедился в наивности этой версии и не стал в нее углубляться. Второе: немецкий воздушный перебежчик. Если на сухопутных границах были перебежчики, а их, по нашим историкам, было сорок четыре, включая последнего, самого известного сапера ефрейтора Альфреда Лискова, о котором так подробно написал в своих мемуарах маршал Г. К. Жуков. Если были наземные, почему не быть перебежчик воздушным? Какие-то немецкие военные летчики, симпатизирующие России, захватили самолет и полетели предупредить о начале войны. Версия реальная, но никаких, абсолютно никаких подтверждений – ни с нашей, ни с немецкой стороны – в истории нет. Третье: это вполне мог быть вражеский самолет-разведчик, задачей которого могло быть вскрытие всей нашей системы ПВО Главной базы Черноморского флота. Ночью по прожекторам, зенитным завесам, по трассирующим выстрелам это сделать легче, чем днем. Но против этого варианта – само время этой акции. Предположить, что враги за целый час до начала войны устраивают такое шумное демостративное действие, невозможно. По всему театру будущей войны и на немецкой, и на румынской границе была абсолютная тишина. Немецкие разведчики ранним утром 22 июня в небе над Севастополем появились. Оперативный дежурный штаба ПВО, полковник Перепелица, назвал это «вторым налетом». И Жилин об этом пишет, и командир зенитной батареи старший лейтенант Игнатович об этом пишет, но все уверенно сообщают, что это было после четырех часов утра. Точного времени мы не знаем, но как нам пишут – где-то на рассвете, а это значит по астрономическим таблицам того дня и того года, где-то между 04.30 утра и 05.06, когда над Севастополем взошло солнце.
Четвертое: по А. Н. Осокину, из его трех книг «Великая тайна великой войны», вытекает версия, что это мог быть английский самолет. По этой версии, по результатам полета Гесса в Англию могла быть договоренность между Гитлером и Черчиллем о том, что 22 июня начинает войну не только немецкая авиация, но и английская, по военно-морским базам на Балтике и на Черном море. Сам Осокин эту версию глубоко не продумал и серьезных, убедительных доказательств не представил. Не стал ломать голову над этой версией и Карамзин.