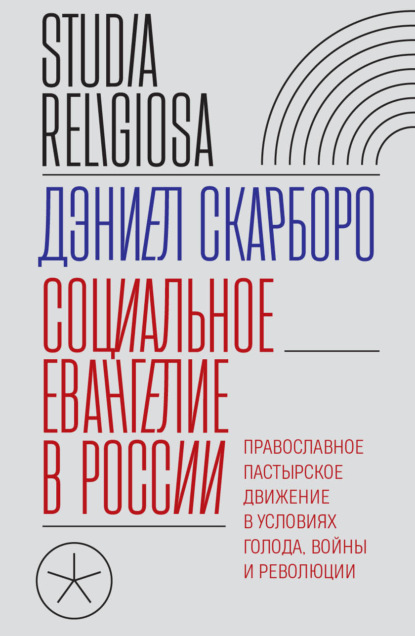
Полная версия:
Социальное евангелие в России. Православное пастырское движение в условиях голода, войны и революции
Победоносцев считал, что православная общественная активность должна вдохновляться и направляться церковными и государственными властями. Братства вполне этому соответствовали по причине широкого участия епископов и государственных чиновников во многих из них. Победоносцев поощрял их работу и предоставлял свой дом Санкт-Петербургскому братству Пресвятой Богородицы194. Однако самоорганизующиеся местные инициативы он рассматривал как продукты чуждой идеологии, заимствованной из Европы и вредящей органическому единству российского общества. Это делало сеть объединений приходского духовенства несовместимой с видением Победоносцева: «Система „свободной церкви в свободном государстве“ основана покуда на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере… В отвлеченном построении этой системы, составляющей плод новейшего рационализма, церковь представляется тоже отвлеченно построенным политическим учреждением с известною целью или частным обществом, для известной цели устроенным, подобно другим, признанным в государстве, корпорациям»195. Таким образом, пребывание Победоносцева в должности обер-прокурора будет отмечено одновременно поощрением пастырской активности и подавлением местной автономии и инициативы.
С самого начала своего пребывания на посту обер-прокурора Победоносцев добивался ограничения свободы объединений в среде приходского духовенства. В 1880 году ему удалось убедить царя-реформатора Александра II отменить выборы благочинных духовенством, которые в той или иной форме проводились примерно в половине епархий империи196. В ходе пересмотра семинарского устава в 1884 году он добился упразднения съездов духовенства ниже епархиального уровня и подтверждения официального ограничения обсуждаемых на епархиальных съездах тем финансовыми вопросами197. Теперь все совместные инициативы приходского духовенства должны были проходить через епархиальное управление, якобы под архипастырским руководством епископа, но на самом деле под надзором канцелярских чиновников. Именно в этих обстоятельствах приходское духовенство столкнулось с одной из гуманитарных катастроф России XIX века.
Кампания помощи голодающим
Осенью и зимой 1891 года засуха в сочетании с серией сильных морозов привела к массовому неурожаю летом 1892 года в 17 губерниях Европейской России. Небольшой урожай 1891 года имел следствием рост цен на хлеб и снижение заработной платы сельских работников, что усугубило и без того отчаянное положение пострадавшего населения численностью около 6 миллионов человек198. Вскоре к голоду добавились эпидемии тифа и холеры, что привело к гибели примерно 400 000 человек к концу 1892 года199. В своем исследовании Ричард Роббинс документирует отчаянные попытки центрального правительства справиться с голодом. Оспаривая тезис о бессердечном и самодовольном режиме, представленный в советской историографии, Роббинс утверждает, что работа центрального правительства по оказанию помощи предотвратила массовый голод и экономический коллапс200. С его точки зрения, причиной столь значительного числа погибших стало отсутствие в империи инфраструктуры, которая позволяла бы правительству выявлять наиболее нуждающиеся общины и снабжать их необходимым количеством зерна. Земская сеть каждой губернии проникала в сельскую местность только до уезда, а правительственные агенты, такие как полиция и сборщики налогов, не имели постоянного присутствия на селе201. Как и ранее, государство призвало духовенство восполнить недостаточно развитую бюрократическую систему, выявляя пострадавшие общины, проверяя честность заявок на помощь и распространяя информацию о гигиенических практиках для ограничения распространения холеры202. Достаточно развитые к 1891 году сети духовенства позволили тогда организовать активную кампанию по оказанию гуманитарной помощи. Ее успех будет иметь долгосрочные последствия для социальной миссии церкви и для влияния приходского духовенства на эту миссию.
Если использование священнических сетей взаимопомощи для облегчения пастырской работы в предыдущие десятилетия только начиналось, то во время голода 1891–1892 годов оно стало систематическим. Хотя братства и участвовали в организации помощи голодающим, их роль была несравнимой с ролью собственных социальных сетей духовенства203. Они начали действовать с самого начала кризиса, ведь духовенство, проживающее в пострадавших местностях, голодало вместе с крестьянами. Победоносцев так описал ситуацию в своем ежегодном докладе императору:
Неурожай этот не мог не отразиться и на материальном состоянии сельского духовенства преимущественно; особенно положение низших членов причтов, из многосемейных и занимающих бедные приходы, было поистине тяжкое. Еще в самом начале печальных последствий неурожая духовенство почувствовало себя в большом затруднении, но когда затем бедствие достигло полных размеров, положение большей части сельских причтов сделалось даже безвыходным. При крайнем поголовном обеднении населения причтовые доходы, т. е. доброхотные вознаграждения от прихожан за церковные требоисправления, которые и в прежние годы не были велики, в одних местах сократились до самых ничтожных размеров, а в других прекратились окончательно… Оставшись на одном только казенном жалованье, получаемом причтами не везде и не всеми членами причтов, и скоро истощив без остатка все прежние запасы и сбережения свои, весьма многие сельские священноцерковнослужители, чтобы буквально не умереть с голода, поставлены были в необходимость распродавать за бесценок свой домашний скот и другое свое последнее имущество204.
Этот отчет иллюстрирует как степень, в которой приходское духовенство зависело от поддержки своих прихожан, так и неспособность центральной церковной и государственной власти заменить эту поддержку. Синод ассигновал 2500 рублей на помощь голодающему духовенству, а Победоносцев лично пожертвовал 1000 рублей особо пострадавшему духовенству Казани205. Однако именно попечительства над бедным духовенством предотвратили катастрофу, эффективно распределив эти средства и собирая еще больше средств во время кризиса. Победоносцев понял, что духовенство может использовать свою инфраструктуру для помощи голодающему населению в целом. Это нашло выражение в инструкции Синода духовным консисториям: «Удовлетворение просьб духовенства производится по тому же расчету, как и удовлетворение просьб прихожан и в том же роде, т. е. посредством выдачи через попечительства лицам духовного звания»206. Таким образом, сети духовенства были официально привлечены к участию в общей помощи голодающим.
Духовным консисториям было поручено организовать свою работу по оказанию помощи строго по иерархической схеме, в соответствии с глубоким неприятием режимом независимых объединений. Первый указ Синода о помощи голодающим вышел 21 августа 1891 года. Он предписывал приходскому духовенству начать делать сборы на помощь голодающим за каждым богослужением. Необходимо было вести строгий учет этих пожертвований. Те священники, которые окормляли приходы, пострадавшие от голода, должны были принимать просьбы о помощи и выявлять жертв голода, например сирот, которые не могли обратиться за помощью самостоятельно. Для контроля за процессом указ предписывал каждому епископу также организовать и возглавить епархиальный комитет, состоящий из священнослужителей и мирян. Большая Московская епархия была разделена между двумя комитетами, каждый из которых возглавлял викарный епископ207. Инициатива сбора средств должна была перейти от центрального комитета к приходам. Прихожане сдавали свои пожертвования священникам. Благочинные собирали деньги с приходов в границах своего округа, а затем передавали в распоряжение епархиальных комитетов помощи под надзором епископов. Из епархий, не затронутых голодом, таких как Тверская и Московская, эти пожертвования передавались комитетам голодающих епархий. Тем не менее фактическое распределение средств в пострадавших епархиях часто осуществлялось попечительством о бедных духовного звания, которое теперь действовало как общая организация по оказанию помощи. Более того, синодальное постановление допускало, что «в случаях особой надобности» и в уездных центрах могут быть организованы временные комитеты из приходского духовенства и приходских старост для сбора и распределения пожертвований208. Таким образом, с самого начала кампании приходское духовенство восстановило в некоторой степени свою местную автономию, вопреки официальной роли простых исполнителей воли архиерея.
Обеспечив синодальной иерархии суверенитет над церковной кампанией по оказанию помощи голодающим, Победоносцев также освободил духовенство от надзора со стороны государственной бюрократии. Эта независимость позволила духовенству организовать свою кампанию с большей эффективностью, чем земская сеть. Губернским земствам всегда было запрещено сотрудничать с коллегами за пределами губерний, а это означало, что во время голода они были вынуждены общаться через губернаторов. Это могло затруднить процесс получения и распределения помощи голодающим, особенно если губернатор отказывался сотрудничать. Например, вятский губернатор наложил запрет на вывоз зерна из своей губернии якобы для предотвращения спекуляций и тем самым лишил Вятское земство возможности направлять помощь голодающим губерниям209. Епархиальным же комитетам было разрешено общение друг с другом напрямую. В декабре 1891 года комитет голодающей Рязанской епархии направил 4000 рублей, собранных собственными силами, в Тверской комитет, который на эти деньги закупил зерно у менее страдающих крестьян своей епархии; затем Тверской комитет отправил закупленное обратно в Рязанский комитет для раздачи голодающему населению210. Некоторые епархиальные комитеты воспользовались разрешением Синода создавать «в особых случаях» уездные комитеты для того, чтобы активизировать свои внутренние коммуникации. Такие комитеты создавались по всей епархии и обычно возглавлялись иереем или протоиереем. Обычно они состояли из десяти–двадцати членов, большинство из которых были приходскими священниками, к которым присоединялись монашествующие священнослужители, местные чиновники и купцы-филантропы. В Москве и Твери были созданы комитеты, на которые была возложена обязанность координировать работу по сбору средств во всех благочиниях, а также организовывать хранение и отправку зерна, собранного или закупленного в пределах уезда. Им также было разрешено создавать сборные пункты на вокзалах и вдоль дорог211. Напротив, 1 сентября 1892 года Министерство внутренних дел постановило, что частные лица не могут организовывать никакие благотворительные сборы без разрешения губернатора, который должен был определять параметры членства и деятельности любой такой организации212. «Духовная команда» защищала непрерывную сеть связей от прихода до межъепархиального уровня.
Даже в контексте синодального управления сама кампания не представляла собой строго вертикально организованный процесс, описанный в указе Синода 1891 года. Усилия церкви по оказанию помощи включали в себя перемещение больших сумм денег и запасов зерна на большие расстояния и из разных рук, и это осуществлялось не только под надзором епископов и их епархиальных комитетов. Действительно, логистическую работу по хранению и транспортировке ресурсов выполняли «временные» уездные комитеты, а не епархиальные власти. Более того, архивные записи в Твери свидетельствуют о том, что нарушения выявлялись и устранялись на уездном уровне, а не епархиальными надзирателями. Так, 10 марта 1892 года комитет Новоторжского уезда сообщил Тверскому епархиальному комитету, что в январском отчете епархиального комитета завышены их вклады ржи, муки и сухарей. В другом письме, от 27 марта, епархиальному комитету был представлен подробный отчет о фактическом вкладе уездного комитета с момента его создания213. В ином случае, в ноябре 1891 года, Бежецкий уездный комитет обратил внимание епархиального комитета на противоречивые отчеты об их последней партии хлеба: один утверждает, что его отправили в Пензу, а другой – что в Воронеж214. Культура подотчетности приходского духовенства, развивавшаяся посредством все более сложной сети взаимопомощи, теперь распространилась и на крупномасштабные благотворительные акции. Возможно, именно из‑за такого усердия духовенства в архивах и московской, и тверской консисторий нет свидетельств того рода махинаций и хищений средств помощи голодающим, которые имели место в земствах215.
Еще более важным для успеха церковной кампании помощи была готовность приходских священнослужителей оказать помощь голодающим за счет собственных средств. Несмотря на строгий контроль за всей благотворительной деятельностью, предусмотренный постановлением Синода, церковные власти не могли принудить к участию приходское духовенство. Бо́льшая часть пожертвований церкви на помощь голодающим поступала из того же источника, который обеспечивал средства к существованию приходского духовенства, – от щедрых прихожан-крестьян. Этот источник мог пересохнуть, о чем свидетельствует объяснение одного священника своему благочинному относительно недостаточного вклада его прихода в оказание помощи в мае 1892 года: «Имею честь объяснить Вашему Высокоблагословению, что мною было приказано Церковному Старосте взять кружку на голодающих при совершении молебнов по домам прихожан в праздник Пасхи… Но как издавна принято в этот самый праздник получать с крестьян сбор на жалованье сторожам и просвирницам, за дрова и проч., то ввиду сих сборов никто из крестьян этих трех селений, составляющих 2/3 прихода, не изъявил желания пожертвовать что-либо на голодающих»216. Отправляя пожертвования в уездный или епархиальный комитет, священник дополнительно делил средства своего прихода, которые уже были разделены между низшим духовенством, церковнослужителями и различными епархиальными учреждениями. У священников были все основания не выдвигать на первый план сбор помощи голодающим, особенно в таких епархиях, как Московская и Тверская, которые не пострадали напрямую от голода и лишь передавали средства на помощь жителям других мест. Комитеты оказывали давление на благочинных, которые, в свою очередь, заставляли священников собирать больше пожертвований. Однако, как объяснил другой священник, никакие пастырские увещевания не могли изменить местные условия, которые определяли, какой вклад могут внести прихожане:
Зная очень хорошо быт и условия жизни прихожан села Чижева, я и не рассчитывал на лучшие результаты сбора и ношения кружки по приходу. При своем малоземельи наши чижевские крестьяне, потребляя купленный хлеб почти круглый год, сами терпят страшную нужду в деньгах, хлебе и в корме для скота… При таковых обстоятельствах никакие пастырские внушения и советы, обращенные к своим злосчастным и голодающим прихожанам с целию со стороны последних пожертвований в пользу пострадавших от неурожая жителей Губерний, естественно не могут принять сердцем и встретить надлежащего христианского сочувствия217.
Епархиальное начальство имело мало информации о ресурсах, имеющихся в сельских приходах, за исключением количества прихожан, или «душ», закрепленных за каждой церковью. В случае кажущейся нехватки пожертвований церковные комитеты по оказанию помощи могли лишь потребовать объяснений. В свете этих обстоятельств примечательно, насколько большая помощь поступала от приходов. Например, благочиние, включавшее 16 приходов, в том числе приходы упомянутых выше священников, внесло с сентября 1891 по февраль 1892 года 396,87 рубля. Это была немалая жертва для сельского округа, который, как объяснил благочинный, сам только что пережил неурожай218. Более того, в сельских приходах священнослужители часто дополняли копеечные пожертвования своих прихожан пожертвованиями в размере от одного до пяти рублей из собственного кармана, о чем указано в ведомостях, собранных Новоторжским комитетом219. Пожертвования, собранные на приходском уровне, в дальнейшем пополнялись на уровне комитетов, которые привлекали вклады от монастырей, местных купцов, дворян и чиновников. Только за декабрь 1891 года, кроме пожертвований хлеба, 14 уездных комитетов и епархиальный комитет Тверской епархии собрали средств на сумму 12 711,75 рубля220. За предыдущий месяц, для сравнения, Министерство государственных имуществ выделило на помощь голодающим 10 655 рублей, а МВД – 272,121 рубля221.
Терпимость к фактической административной независимости священнических сетей вплоть до официального прекращения оказания помощи голодающим, по-видимому, отражала молчаливое признание государством ценного вклада церкви в общие усилия. 17 ноября 1891 года император объявил об образовании Особого комитета под председательством своего сына, будущего Николая II, который должен был объединить различные организации, созданные для разрешения кризиса. Официально этот шаг был направлен на улучшение координации сбора и доставки помощи, а также на введение более широкого надзора для предотвращения расточительства и воровства222. По словам Роббинса, Особый комитет должен был создать филиалы в каждой провинции, чтобы заменить отдельные комитеты, организованные губернаторами, Красный Крест, а также, несмотря на протесты Победоносцева, духовенство. Аналогичное слияние должно было быть проведено на уездном уровне223. Фактически же, по крайней мере в Москве и Твери, сети поддержки духовенства остались в основном нетронутыми. Уездные комитеты продолжали свою работу в прежнем режиме. Они передавали собранное епархиальному комитету. Они продолжали организовывать и финансировать доставку хлебных пожертвований речным и железнодорожным транспортом в епархиальные центры224. Единственная разница заключалась в том, что епархиальные комитеты теперь передавали собранные средства филиалу Особого комитета и прекратили свое прямое сотрудничество с другими епархиями225. Степень, в которой Особый комитет мог присвоить себе усилия церкви по доставке помощи в голодающие губернии, должна быть оценена отдельно на основе местных данных. Тем не менее Роббинс отмечает, что приходское духовенство продолжало играть роль в приеме заявок на помощь и выявлении наиболее нуждающихся общин в голодающих провинциях226.
Духовенство продолжало свою работу до 18 июля 1892 года, когда Синод приказал всем комитетам прекратить сборы, передать все оставшиеся средства и документы епархиальному управлению и распуститься227. С начала своей деятельности и до этого момента Тверской комитет собрал в общей сложности 69 167,32 рубля, а также 16 449 пудов и 32 фунта (около 297 тонн) зерна228. Два главных комитета из гораздо более крупной и богатой Московской епархии сообщили о совокупном пожертвовании к концу июля в размере 150 119,08 рубля и 138 551,15 рубля соответственно229. Часть этих сумм и также тех, что были собраны другими епархиальными комитетами после декабря 1891 года, была включена в 2,5 миллиона рублей, полученные Особым комитетом от различных учреждений. Это была небольшая часть от общей суммы в 13 миллионов рублей, собранных Особым комитетом, основная часть которой, как сообщает Роббинс, поступила из доходов от двух благотворительных лотерей230. Масштаб денежного вклада церкви, конечно, не отражает ни ценную логистическую поддержку, которую оказало духовенство, ни открытую кампанией возможность свободной ассоциации мирян. Хотя количественный вклад сельских прихожан был невелик по сравнению с вкладом городских центров, их участие в кампании по оказанию помощи продемонстрировало возможность широкого добровольного сотрудничества отдаленных российских общин в интересах самопомощи и восстановления после катастрофы. Это стало значительным событием как для церкви, так и для зарождающегося гражданского общества России.
Заключение
Кампания по оказанию помощи голодающим изменила положение церкви в позднеимперской России. Как и предполагал Победоносцев, вклад церкви в помощь голодающим увеличил ее социальное присутствие и вернул ей статус хранителя всеобщего благополучия. Однако Победоносцев не намеревался и не ожидал, что кампания обнаружит незаменимость социальных сетей приходского духовенства для задач, выполнять которые он призывал церковь. В своем докладе императору 1893 года о кампании помощи голодающим Победоносцев признавал, что епархиальные съезды духовенства, которые он не одобрял, созывались по необходимости, чтобы представители приходского духовенства могли договориться об использовании своих пенсионных фондов для помощи голодающим231. Право приходского духовенства созывать окружные съезды было официально восстановлено в 1896 году232. Вклад сетей взаимопомощи духовенства в кампанию продемонстрировал полезность священнических ассоциаций для способности церкви влиять на общество. Последующие кризисы приведут к дальнейшим уступкам свободе объединений духовенства в ближайшие годы.
Социальные сети приходского духовенства не обеспечивали финансовой независимости от мирян, как того требовал Беллюстин, но давали ему иной вид власти над общей религиозной жизнью православного населения. Ассоциации, созданные приходским духовенством для решения собственных экономических проблем, превратились в основу церковного объединения всех сословий. Они обеспечивали поддержку государственного социального обеспечения, руководство братствами и доверие к частным пожертвованиям на благотворительные цели. Эта постепенная трансформация была достигнута благодаря коллективной готовности приходского духовенства выполнить добровольно и безвозмездно работу по передаче ресурсов их собственных общин обратно крестьянству. Отчасти здесь можно усмотреть практические мотивы. Помогая мирянам, пастыри сохраняли социальную основу для собственного экономического обеспечения и автономии своих объединений. Однако масштаб участия духовенства в гуманитарной помощи в 1891–1892 годах предполагает более широкую мотивацию. Включив в пастырскую работу среди мирян практики духовного сословия по объединению для решения задач за пределами собственной общины, «новый тип пастыря» изменил практику православия в Российской империи.
Глава 2
Война, революция и голод
В рассказе «Кошмар» Антон Чехов описывает молодого приходского священника о. Якова глазами члена сельского земского управления Кунина, согласившегося сотрудничать со священником в деле создания приходской школы. Кунина сначала раздражает убогий вид и робкое поведение о. Якова, пока он не осознает степень бедности священника. Отец Яков признаётся Кунину, что он и его семья страдают от голода, поскольку бо́льшую часть своего скудного дохода он отдает другим людям.
Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все… удивляются, куда я эти деньги деваю… Но я вам всё по совести объясню… Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц! Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был… Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но… не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить?.. Какая рука подымется просить у нищего?233
Открытие Куниным масштабов сельской бедности, о которых он наивно не подозревал, является его «кошмаром». В рассказе Чехова изображено неловкое напряжение, царившее в сельских приходах между духовным сословием и прихожанами-крестьянами, которых просили поддержать священнослужителей. Стыд о. Якова выражает осознание духовенством бремени, которое их сети взаимопомощи возложили на православных мирян. По мере расширения и усложнения сетей духовенства осознание своего долга перед прихожанами побуждало приходских священников дать мирянам воспользоваться ресурсами и общественными преимуществами, которые предоставляли эти сети.
Растущая организационная автономия приходского духовенства способствовала более широкому участию мирян в расширяющейся сети ассоциаций. Это также предоставило духовенству выбор: использовать свои коллективные ресурсы на благо своего сословия или распространить свои социальные сети на другие сообщества. Эта дилемма стояла не только перед приходским духовенством. К середине XIX века члены среднего городского сословия (мещанства) создали свои собственные благотворительные ассоциации, чтобы справиться с бедностью в растущих, индустриализирующихся городских центрах. Но эти ассоциации берегли ресурсы для нуждающихся членов своего сословия, иногда – для представителей определенной профессии234. Государство укрепило социальные барьеры, запретив создавать объединения поперек сословных границ. Например, промышленные рабочие крестьянского сословия были изолированы от остального городского населения, что не позволяло их цеховым организациям и обществам взаимопомощи сотрудничать с другими городскими объединениями235. Бо́льшая часть исследователей этого периода определила сословную изоляцию как в конечном итоге непреодолимое препятствие на пути к инклюзивному гражданскому обществу. Эта изоляция развивающихся сообществ имперской России, как утверждается, трансформировала их жизненные силы в насильственный радикализм236. Пастырское движение представляет собой контрпример этому нарративу. Столкнувшись в 1905 году с многочисленными кризисами войны, революции и голода, приходское духовенство не отступило в оборонительную сословную изоляцию. Сети духовенства Московской, Тверской и других епархий добровольно и самостоятельно оказывали помощь другим сообществам.



