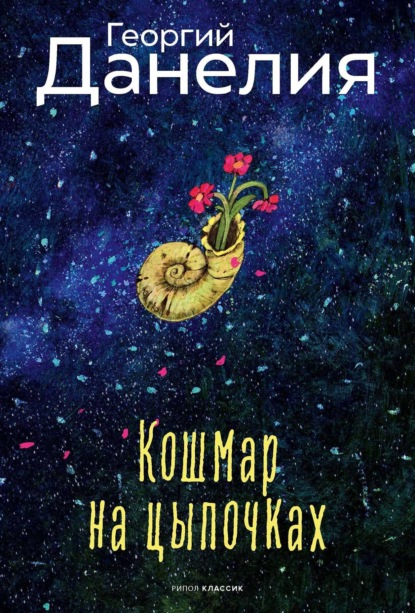
Полная версия:
Кошмар на цыпочках
С утра в мастерской никто не работал. Пока еще полушепотом делились услышанным: оказывается, Сталин был еврей, японский шпион и агент царской охранки.
Ы-Фынь сидела неподвижно, уставившись в одну точку. Слушала, слушала и вдруг что есть силы грохнула кулаками по столу и крикнула:
– Мао Цзедунь никогда не ошибаться! Никогда! – и убежала.
Несколько дней она не появлялась. Потом явилась как ни в чем не бывало, и все пошло по-прежнему: днем чертим, вечером рисуем.
В общем, я к ней привык. Она мне была симпатична: вежливая, скромная и очень обязательная. Она ко мне тоже привыкла и приглашала в гости:
– Георгия, приходи ко мне дома. Будем пить чай, веселиться и фотографироваться.
А я, не зная, что она имеет в виду под «веселиться», не иду, отказываюсь. Вызывают меня в комитет комсомола:
– Данелия, тебя твоя китаянка чай пить приглашает. Почему не идешь?
Уже настучал кто-то.
На следующий вечер после работы я купил букетик цветов и поехал к Ы-Фынь. Жила она в однокомнатной квартире с казенной мебелью. Мы выпили чаю со сластями из гастронома, она рассказала анекдот про Трумэна, я – про грузина и армянина, посмеялись. Потом она взяла фотоаппарат, мы вышли на улицу, она сфотографировала меня, я – её, попросили прохожего, он сфотографировал нас вместе. Попрощались и разошлись, точно выполнив программу: выпили чай, повеселились, сфотографировались.
Так Ы-Фынь проработала у нас полгода, и ей пора было уезжать. Мы собрали деньги, купили ей в подарок электрический самовар и устроили в мастерской прощальную вечеринку. После вечеринки Ы-Фынь попросила, чтобы я ее проводил, и по дороге, в метро, спросила, не хочу ли я поехать в Китай. На три года работать. Могу взять с собой жену и дочку.
– Спроси семья. Утром позвони. В семь. В восемь меня посольство везти аэропорт.
– Хорошо, позвоню. А кем я там буду работать?
– Будешь моя советника.
– А ты кто?
– Министра строительства.
– ?!!
Дома я посоветовался и на следующий день ровно в семь утра позвонил Ы-Фынь, сказал, что согласен.
На работе, когда я сообщил, что Ы-Фынь – министр строительства Китая, все решили, что я шучу. Но начальник мастерской занервничал и успокоился, только когда позвонил в Госстрой и выяснил, что министр строительства Китая – мужчина. А через две недели из Китая пришла бумага – официальное приглашение Данелия Георгия Николаевича.
– Может, она замминистра? – снова заволновался начальник мастерской. – Или министр какой-нибудь провинции?..
Я до сих пор не знаю, кем была Ы-Фынь, но тогда решил: не попадаю на курсы – еду в Китай.
Режиссерские курсы
– Подождите в комнате отдыха актеров, вас вызовут, – сказала секретарша, когда я пришел на «Мосфильм» сдавать вступительные экзамены на режиссерские курсы.
В комнате актеров сидели, ходили, курили, стояли, прислонившись к стене, человек двадцать абитуриентов. В основном это были театральные режиссеры, некоторые уже с именем. Обсуждался только что вышедший на экраны бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани». Говорили они очень складно, красиво и непонятно. Ссылались на источники, про которые я не слышал, употребляли термины, которые я не знал. Я даже не понял, хвалят они фильм или ругают.
«Куда ты лезешь, Данелия? – сказал мне внутренний голос. – В Китай, брат, в Китай!»
Но тут меня вызвали.
Большая комната была освещена неоновыми лампами, излучающими холодный синий свет (неоновые лампы только-только появились, и я их увидел впервые). В первом ряду за длинным столом сидели ведущие мастера советского кино: Пырьев, Довженко, Ромм, Юткевич, Калатозов, Рошаль, Александров, Трауберг, Дзиган, Зархи. Во втором ряду – просто мастера советского кино: Арнштам, Роом, Столпер, Птушко, Юдин, Барнет, Пронин, Швейцер… А в глубине у стены стояла «шушера»: Самсонов, Басов, Гайдай, Рязанов, Азаров, Чулюкин, Карелов, Алов с Наумовым и другие. Всего экзаменаторов было человек пятьдесят. И все синие от неонового света.
Посередине комнаты стоял круглый столик и стул. На столике – графин с водой и стакан.
– Садитесь, Данелия, – доброжелательно сказал Рошаль.
Я сел и уставился на Пырьева, который листал мои рисунки.
– Георгий Николаевич, почему вы решили поменять профессию? – спросил Калатозов, как договорились.
А я вдруг понимаю, что ни слова сказать не могу. Все забыл. То ли культурный шок, полученный в предбаннике, меня подкосил, то ли количество и цвет экзаменаторов.
– Выпейте воды, – сказал Рошаль.
Я налил воды в стакан, выпил.
– Ну, так почему вы решили стать режиссером? – мягко повторил свой вопрос Калатозов. – Ведь архитектор тоже интересная профессия.
– Да, – согласился я, – парфеноны и колизеи стоят века, – с ужасом понял, что говорю что-то не то, и замолк.
«В Китай! В Китай!!» – напомнил внутренний голос.
– Скажите, а вы любите литературу, музыку? – подсказывает Калатозов.
– Да… – наконец вспомнил я: – А кино – искусство синтетическое. А я люблю и театр, и литературу, и живопись, и музыку. А кино все аккумулирует.
– А почему бы вам не поступить в Суриковское? – спросил Довженко, которому Пырьев передавал рисунки. – Вы неплохо рисуете.
– Потому, что кино – искусство синтетическое, – пошел я по второму кругу. – А я театр люблю, и литературу, и музыку. «Аппассионату» Бетховена, и «Героическую», и Прокофьева люблю, и Дудинцева, и Утесова… – не смог я вовремя остановиться.
Дальше я толком ничего не помню. Что-то меня спрашивали… Что-то я отвечал…
А вечером, когда мы с женой уже строили китайские планы, со студии позвонила счастливая мама. В коридоре «Мосфильма» она встретила Самсона Самсонова и как бы мимоходом спросила:
– Ну, что там на экзаменах? Были способные?
– Было несколько. Кстати, и одного грузинчика приняли. Нам с Иваном (имелся в виду Пырьев) его рисунки понравились.
…В результате на курсы взяли четырнадцать человек. Из четырнадцати десять были театральными режиссерами, а четверо нет: инженер, психолог и мы с Егором Щукиным – архитекторы.
Театральные режиссеры говорили, что абсурдно учить нас всех по одной программе. Это все равно, что учить одному и тому же человека, который играет Листа, и человека, который еще не разучил гаммы. Может быть, они были правы. Все, что касалось работы с актерами, мизансцен и системы Станиславского, они, конечно, знали лучше. Но что касается кино… Я с детства околачивался на съемочных площадках. И в массовках снимался – и когда был ребенком, и потом, когда учился в школе, и когда учился в архитектурном. А в фильме «Георгий Саакадзе» даже сыграл крестьянского мальчика, с репликами! Мне тогда было десять лет. Поэтому, как снимается кино на практике, какое это непредсказуемое занятие, я знал лучше, чем они.
Между прочим. Раз уж упомянул фильм «Георгий Саакадзе», расскажу чем он мне запомнился. Когда фильм в сорок третьем вышел на экраны в Москве, я повел весь двор смотреть на меня в кино. А меня там не было: оказалось, что мой эпизод вырезали. Сняли, похвалили и вырезали. (А мама не решилась мне об этом сказать.)
Но думаю, что съемочной группе «Георгия Саакадзе» я запомнился не в образе крестьянского мальчика, а в роли турецкого янычара. Недалеко от Тбилиси снимали батальную сцену: сражение грузин с турками. Детей в армию не брали, но, используя родственные связи, я выклянчил форму, шлем и меч. И даже коня! Но, пока я бегал по инстанциям, грузинская амуниция уже кончилась, и из меня сделали турецкого янычара – надели шальвары, чалму и дали кривую саблю.
Лошадьми фильм обеспечивал кавалерийский полк, но их не хватало, поэтому турецкую конницу добирали где возможно: и на конезаводе, и у местных крестьян, и даже в цыганском таборе. Мне досталась «цыганочка». Позже, когда я увидел иллюстрации к «Дон-Кихоту», я понял, что Росинанта рисовали именно с нее. Но Росинант был флегматик, а моя «цыганочка» все время скалила зубы, косила красным глазом и подрыгивала ногами: чего стоим? Чего время теряем?
Пока седлали мою «цыганочку», шли бесконечные репетиции: турецкая конница отступала, грузинская наступала. Чтобы войска не смешались, синхронизировали все с точностью до секунды.
Наконец, мой конь был оседлан, и я обходным путем – чтобы мама неувидела – въехал к туркам и затесался поглубже.
– Приготовились к съемке! – скомандовал Михаил Чиаурели. – Камера! Пошли турки!
Мы, турки, поскакали.
– Грузины!
Поскакали и грузины. Впереди грузинского войска – Георгий Саакадзе на белом арабском скакуне.
Я был счастлив. Моя «цыганочка» шла хорошим галопом и ничуть не уступала другим лошадям.
Но перед камерой, в самом центре кадра, «цыганочка» вдруг остановилась и стала выпендриваться. Она взбрыкивала и, пытаясь меня сбросить, чуть не стойку делала на передних ногах. А я висел у нее на шее, вцепившись в гриву, чалма съехала на брови, сабля оказалась на спине и била по голове.
– Что за кретин там в кадре? – раздался истошный крик оператора.
– Стоп! – закричал в рупор Чиаурели. – Грузины, стойте! Остановитесь!
Но остановить грузинское войско было уже невозможно: прямо на меня несся Георгий Саакадзе. Перед моей выпендривающейся «цыганочкой» его араб вдруг резко затормозил, и великий полководец вылетел из седла.
Что было потом, пропускаем. Почти месяц меня и близко к съемкам не подпускали…
На курсовую работу нам выделили по 300 метров пленки и по одному съемочному дню на каждого. На лекциях я сидел за одним столиком с Шухратом Аббасовым. Нам было комфортно друг с другом – я неречист, и он молчун, и мы решили объединиться и совместно снять отрывок из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова: как Варвара уходит от Васисуалия Лоханкина (на двоих – 600 метров пленки и два съемочных дня).
Написали сценарий, прохронометрировали – получилось 756 метров. А у нас 600. Пятьдесят процентов уйдет на хлопушки, захлесты и технический брак – это минимум. Пришлось сокращать 256 метров – вычеркивать дорогие нашему сердцу реплики. С трудом втиснулись в 300 метров, (10 минут). Но снимать мы должны были только по одному дублю.
На актеров денег не было, и мы пригласили студентов Школы-студии МХАТ Галю Волчек и ее мужа Женю Евстигнеева. Конечно, мы хотели кого-нибудь поопытнее, но у этих было большое преимущество – они были бесплатными.
Снимать мы должны были в какой-нибудь готовой декорации, построенной для другого фильма. Но на момент съемок в павильонах «Мосфильма» стояли либо избы, либо дворцовые залы, и нам пришлось сделать выгородку комнаты Лоханкина в коллекторе (зале для складирования). Мы сами притащили и поставили две стенки, сами принесли мебель и реквизит. И начали снимать. (Оператором нам назначили женщину средних лет – Соню Хижняк.)
Первый день прошел очень успешно – сняли 140 полезных метров, потратили 287. Второй день не задался. Начали снимать – забарахлила камера, – «салат». Перезарядились – снова брак – соринка. Снимаем крупный план Гали Волчек – в коллектор въехал грузовик, звукооператор требует переснять. Второй дубль у Гали получился хуже, чем тот испорченный – Галя настаивает: еще один. А пленка идет. В итоге к концу смены на последний кадр осталось всего девять метров – ровно на один дубль. Снимали не по порядку, а так, как было удобно по свету, и последним оказался кадр из середины: Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу, с криком «Спасите!» порвал карточку и снова улегся на диван.
Проверяли на мне: Шухрат стоял с хронометром, а я вскакивал с дивана, истошно кричал: «Спасите!», рвал карточку и ложился обратно.
– Семь метров, – сказал Шухрат. – Женя, запомнили? Сделайте все точно так.
– И кричи, что есть мочи, истошно, – добавил я.
– Давайте снимать, – Евстигнеев лег на диван.
Я перекрестился и скомандовал:
– Мотор!
Евстигнеев встал, медленно подошел к столу, порвал карточку, вернулся, лег на диван и лениво, чуть слышно пробормотал: «Спасите»… Пленка кончилась.
Погубил фильм, зараза!
– Съемка окончена, спасибо всем, – сказал невозмутимый, как индеец, Аббасов. – Пойдем, Гия!
И мы, не попрощавшись, ушли из павильона.
Долго шли молча.
– А может, это не так уж плохо? – наконец сказал Шухрат.
Я свирепо посмотрел на него. Шухрат поднял руки:
– Молчу.
Шухрат оказался прав: когда в первый раз показывали отрывок, больше всего смеялись именно в этом месте. А Ромм потом даже похвалил эту евстигнеевскую импровизацию:
– Хорошо придумали, сделали от обратного. Молодцы!
Я посмотрел на Шухрата, Шухрат – на меня, и мы не стали уточнять, чья это идея, – зачем терять время на никому не интересные подробности?
…В ноябре мы с Шухратом были в Краснодаре на практике – на съемках картины Григория Львовича Рошаля «Хождение по мукам». Мама работала там вторым режиссером, а директором картины был Виктор Серапионович Циргиладзе, мой старый знакомый: именно он гонялся за мной с палкой на съемках «Георгия Саакадзе» после случая с «цыганочкой».
Ну что я могу рассказать об этой практике? Съемки как съемки, все это я уже видел не раз. Ярко мне запомнилась такая картина: вечер, закат, поле, черный силуэт съемочного крана, на нем – человек… Мне даже захотелось про это снять фильм (у меня в жизни так бывало – картинка, а потом фильм. Девушка и парень с зонтиком – «Я шагаю по Москве», вертолет на замке – «Мимино», голова в капитанской фуражке посреди реки – «Фортуна»).
С Циргиладзе всегда работал Ким – скромный седой человек с усталым лицом. Мы никак не могли определить его должность. Иногда он носил стул за режиссером, иногда на нем ставили свет, а чаще всего он стоял около камеры. Наверное, Ким и сам прекрасно понимал, что без него спокойно могут обойтись, и поэтому очень старался быть полезным.
Снимали сцену «Ранение Рощина». Накануне ночью подморозило, и лужи покрылись коркой льда. Николай Гриценко, который играл белого офицера Рощина, предложил эффектный кадр: Рощина ранят, он падает и лицом разбивает ледяную корку. «Падать буду только один раз, – предупредил Гриценко. – Снимайте наверняка».
Настроились, тщательно все проверили.
– Все готовы? – спросил Рошаль.
– Готовы.
– Камера! Начали!
И Гриценко самоотверженно рухнул лицом в лужу. Разбил он щекой лед или не разбил, никто не увидел, потому что тут же с криком «ой, он упал!» в кадр вбежал Ким и стал поднимать Гриценко: «Коля, больно?» Хорошо, что офицер Рощин в этой сцене был без сабли, а то Гриценко разрубил бы Кима на кусочки.
И еще у Кима было одно занятие – когда снимали с крана, если оператор слезал с площадки, туда сажали Кима – чтобы не нарушалось равновесие.
Как-то снимали километрах в тридцати от города в степи. После съемки обратно в Краснодар мы с Шухратом ехали на газике с Циргиладзе. На полпути Циргиладзе спохватился:
– Ребята, а где Ким?
Ким всегда ездил с ним.
– Не знаем.
Развернули машину, поехали обратно. На фоне заходящего солнца чернел силуэт крана. А на верхней площадке крана, сгорбившись, сидел Ким.
– Ким, съемка закончилась давно! Ты что там сидишь, болванчик?! – истошно заорал Циргиладзе.
Болванчиками Циргиладзе называл всех. Одних в глаза, других (Рошаля, например) за глаза.
– Меня забыли, – виновато объяснил Ким.
До войны Ким был большим начальником в нашем кино. Потом от него ушла жена, он запил и пропал. Объявился во время войны в Тбилиси: жалкий, опустившийся… Его случайно на улице встретил Циргиладзе, узнал, приютил, и с тех пор они не расставались.
…На диплом я решил снять драму. Остановился на «Русском характере» Алексея Толстого: обожженный танкист приходит на побывку домой, и мать его не узнает. У каждого из нас, слушателей курсов, был свой наставник. Моим был Калатозов. Я написал сценарий и отнес мастеру на утверждение.
– Позвоните завтра часа в три, – сказал он мне.
Назавтра, ровно в три, набираю с режиссерских курсов номер и слышу – приятный женский голос говорит в трубке: «Калатозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите после сигнала. В вашем распоряжении минута». Тогда об автоответчиках еще никто не слышал. Звоню каждый час – то же самое. Встречаю в коридоре «Мосфильма» своего друга, дипломанта ВГИКа Тамаза Мелиаву, спрашиваю:
– Хочешь послушать чудо техники?
Завожу его в комнату, набираю номер и даю трубку:
– Слушай.
«Калатозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите…»
– Эту финтифлюшку он, наверное, из Америки привез, – сказал Тамаз и тут же предложил: – Есть два пятьдесят. Поехали в «Арарат».
– Не могу. Мне к Калатозову надо.
– Из ресторана позвоним.
В шикарном по тем временам ресторане «Арарат» висели бамбуковые занавески и была зеркальная стена, в которой отражался весь зал. Конечно, на два пятьдесят следовало идти не в этот ресторан, а в пивнушку, но Тамаз, как и его учитель Сергей Иосифович Юткевич, был эстетом. (К примеру, он никогда не открывал бутылку пива зубами.) Тамаз долго выяснял у официанта, какие есть коньяки? И что он порекомендует на горячее? А кто шеф-повар? В итоге заказал коньяк армянский «три звездочки», сто пятьдесят грамм, кекс – две порции, и лимон. И велел принести самые маленькие рюмочки. Официант почтительно кивнул и заспешил выполнять заказ. Было в Тамазе что-то такое, что неотразимо действовало на официантов. Заказы на копейку, а официанты почтительны и угодливы. На два пятьдесят в «Арарат» я бы ни с кем, кроме Тамаза Мелиавы, не пошел.
Я вспомнил о Калатозове и вышел в холл позвонить. Занято! Когда дозвонился – снова женский голос. Вернулся в зал – за нашим столиком сидят еще двое.
– Познакомься, – говорит Тамаз. – Наши друзья из Восточной Германии.
Немцы приподнялись, мы пожали друг другу руки. И немцы уставились в меню. (Их к нам подсадили, потому что в зале на этот момент мы были самыми трезвыми.) Официант принес наш заказ: графинчик с коньяком, два ломтика кекса и две дольки лимона.
– Еще две рюмки! – распорядился Тамаз.
И официант заторопился за рюмками.
Когда появились рюмки, Тамаз встал, разлил коньяк и предложил выпить за великого немецкого коммуниста Эрнеста Тельмана. Все встали, Тамаз сказал тост, перечислив заслуги Тельмана перед человечеством. Мы выпили. И тут же Тамаз предложил выпить за соратника Тельмана – верного ленинца Вильгельма Пика (президента Восточной Германии). Начал разливать – на одну рюмку не хватило… Тамаз поставил графинчик на стол и задумался. Немцы пошушукались, заказали еще сто пятьдесят. Официант принес. И Тамаз продолжил тост. Говорил о Вильгельме Пике с такой теплотой, словно Пик был его ближайший родственник. Выпили. И тут же Тамаз предложил выпить за выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза Никиту Сергеевича Хрущева. Разлил коньяк – опять на одну рюмку не хватило. Опять Тамаз поставил графин и вздохнул, а немцы опять пошушукались и заказали… И так минут двадцать.
Мы выпили за «миру мир», за «солидарность со странами третьего мира», за кубинскую революцию и Фиделя Кастро (отдельно) и в его лице – за лидеров всех стран социалистического лагеря…
А после того, как мы выпили за бесстрашных коммунистов-женщин: Розу Люксембург, Клару Цеткин, Надежду Крупскую и Екатерину Фурцеву, – немцы, так и не присев, заплатили за то, что они заказывали, попрощались и, покачиваясь, пошли на выход. Но перепутали направление и врезались в зеркало – в то место, где отражалась дверь.
– Пора и нам, – Тамаз посмотрел на часы. Он собирался ехать на вокзал встречать Вахтанга Абрамашвили, который вез бочонок вина. Позвал и меня с собой.
– Не могу, мне к Калатозову надо.
– Надоел ты со своим Калатозовым!
Официант принес счет. Уложились в два тридцать, а двадцать копеек Томаз щедро оставил на чай. Из холла я снова позвонил мастеру и снова: «Калатозова нет дома… Если хотите что-то передать…» – сообщила калатозовская дама.
– Дай-ка, – Тамаз взял у меня трубку и сказал противным высоким голосом: – Передайте ему, что он сикильдявка.
– Ты что, с ума сошел? Ты что натворил?! Он теперь решит, что это я!
– Я женским голосом говорил, он подумает, что это заигрывает поклонница, – сказал Томаз.
Вахтанга мы встретили, бочонок он привез…
…На следующий день, ровно в три часа, я позвонил мастеру. «Калатозова нет дома, – начала калатозовская дама, – если хотите что-то передать…»
Я дослушал до конца и сказал:
– Передайте, пожалуйста, Михаилу Константиновичу, что звонил Гия Данелия и он извиняется, что вчера не смог позвонить, потому что…»
– Гия, я прочитал, – неожиданно прозвучал голос мастера. – Приезжайте….
Приехал. Сценарий мастер забраковал:
– Фальшиво. Мать не может не узнать сына, она сердцем чувствует.
Зазвонил телефон. Калатозов трубку не взял. Дама произнесла свой текст.
– Это автоответчик, для сообщений, когда абонента нет дома, – объяснил он. – Но я его никогда не отключаю, не беру трубку, если не называются, звонит много ненужных людей… и не только… – Калатозов на секунду задумался и спросил: – Кстати, Гия, вы случайно не знаете, что такое сикильдявка?
– Нет, не знаю, – произнес я, честно глядя ему в глаза.
И сказал чистую правду: что такое сикильдявка я до сих пор не знаю. И спросить уже не у кого…
И так я остался без сценария, и Тамаз Мелиава, который чувствовал себя виноватым за сикильдявку, отдал мне свою очень удачную инсценировку небольшого эпизода из романа «Война и мир», который он собирался поставить на площадке во ВГИКе.
Ночь. У костра солдаты варят кашу. Из леса выходят два француза, голодные, ободранные, почти босые. Солдаты усаживают их у костра, кормят кашей, дают водки. Французы поели, выпили и заснули. «Тоже люди», – удивился молодой солдатик Залетаев. (Его играл юный Лев Дуров, это был его дебют)
Условия съемок теперь были лучше, чем на курсовой: пленку дали один к пяти, была профессиональная съемочная группа и техника.
Снимали зимой, ночью, в лесу недалеко от «Мосфильма». Было очень холодно, и мой однокурсник, грек Манус Захариас (он играл французского офицера), простудился. На следующую ночь у него была температура 38,5. Пустить его босиком на снег мы, естественно, не могли. Так что в кадре «босые ноги французского офицера» мы снимали мои ноги.
Я стою босиком на снегу, а оператор Николай Олановский уже двадцать минут ставит свет.
– Скоро?
– Сейчас еще один бэбик поставлю – и все.
(Бэбик – маленький осветительный прибор.)
Поставили бэбик.
– Все?
– Все. Сейчас только эффект от костра сделаем.
Осветитель взял еловую ветку и стал махать перед прибором.
– Быстрее! – сказал Олановский.
Осветитель замахал быстрее.
– Медленнее!
А я все стою. Наконец сняли дубль. Олановский просит повторить. Сняли второй. Коля просит – еще: надо теперь помахать веткой у другого прибора. «Дорвался! Устроил себе именины сердца!» Сняли третий.
– Все! Снято! – крикнул я и побежал к автобусу.
– Стой! Не снято! – кричит Олановский. – Еще один дубль! Я только еще один бэбик добавлю!
– Нет уж, хватит!
Утром отдали пленку в проявку. К вечеру узнаем, что наш материал напечатали. Терпения ждать, когда его выдадут, не было, – и мы побежали в лабораторию, и напросились посмотреть вместе с ОТК (отдел технического контроля).
Идет наш материал, все нормально: лес, костер, солдаты… На экране – ноги на снегу, а на них – эффект костра. Хорошо! Не зря ветками махали. Первый дубль, второй… Женщина в белом халате (технический контролер) поворачивается ко мне и спрашивает:
– Нафталину насыпали? Или соль?
– Снег.
– Да ладно. Я-то вижу, что не снег.
Мне очень обидно. Зря мерз! Наверное, все-таки надо было дать Олановскому поставить еще один бэбик.
…Так прошло два года. Первые полтора мы учились в идеальных условиях. У нас была большая аудитория, свой просмотровый зал, куда три раза в неделю привозили фильмы из фильмофонда. Все мы были зачислены в штат студии как ассистенты режиссера первой категории, с такой же зарплатой. И все потому, что эти курсы придумал Пырьев, а он был перфекционист: все, что его, должно быть на самом высоком уровне.
Когда Пырьев стал директором, он развернул на «Мосфильме» грандиозное строительство. Построил два новых корпуса с павильонами, вырыл пруд, огородил территорию высокой чугунной решеткой и стал добиваться, чтобы все Воробьевы горы передали «Мосфильму» для натурных площадок.
Тут-то его и сняли. А без Пырьева никто не знал, что с нами (выпускниками режиссерских курсов) делать, куда нас девать. Оказалось, что режиссерские курсы «Мосфильма» не зарегистрированы Министерством высшего образования, и диплома режиссера-постановщика нам никто выдать не может. А если нет диплома, то и постановки нам не полагается.

