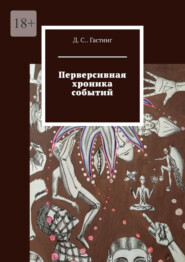скачать книгу бесплатно
Перверсивная хроника событий
Д. С.. Гастинг
Чтобы найти правильный вопрос к слишком пугающему ответу, ей придётся написать свою собственную историю болезни – и значит, буква за буквой изучить азбуку безумия.
Перверсивная хроника событий
Д. С.. Гастинг
Автор обложки Дарья Юрьевна Шустова
© Д. С.. Гастинг, 2024
ISBN 978-5-0062-4105-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Благодарственное слово
Эта книга писалась вдвое дольше, вдвое тяжелее, вдвое затратнее и, кажется, получилась вдвое хуже двух предыдущих – но всё равно пусть будет. Человеку свойственно любить своих детей, пусть даже не особенно удачных. К тому же у этой книги есть свои определённые плюсы – например, в ней совсем нет ни секса, ни политики; может быть, с вашей точки зрения это, наоборот, не плюс, но всё равно – неужели вам неинтересно узнать, о чём может быть книга совсем без секса и политики?
Спасибо всем, кто поддерживал меня в неприятный период работы над ней и продолжает поддерживать в последовавший за ним ещё более неприятный. Отдельное спасибо:
Дарье Шустовой за очередную великолепную обложку и за талант;
Никите Гладилину за бесценную поддержку и за талант;
Илюхе Усачёву за потрясающие наводки и за талант.
С. Ш. – вообще за всё.
С любовью, Д. С. Гастинг.
А значит айлурофобия
Кошка сидит посреди коридора, которого я уже не узнаю – длинные стены оклеены в светлых тонах, короткие – в тёмных, в углу стоит изящная благородно-коричневая тумба с вешалкой, вдоль тянется длинная белая банкетка с изогнутой спинкой – и увлечённо вылизывает гениталии. Кошка как кошка, белая в рыжих пятнах, ничего в ней нет удивительного, не считая того факта, что это первая кошка, которую я вижу за два с половиной года. Услышав шум, она отрывается от своего занятия, поднимает голову и внезапно смотрит прямо на меня – и в её круглых ничего не выражающих глазах болотного цвета я вижу что-то такое, отчего застываю в дверном проёме, не в силах двинуться дальше, и всё моё тело начинает сотрясать крупная дрожь. Я изо всех сил кусаю нижнюю губу, чтобы не расплакаться, потому что если я расплачусь чёрт знает из-за чего, меня больше не отпустят домой на выходные, а я так счастлива, что меня отпустили наконец.
Папа и мама недоумённо переглядываются. Широкое папино лицо резко становится хмурым, лоб прорезают морщины, и я замечаю, что он всё-таки стареет – его лицо уже больше напоминает печёное яблоко, чем свежее, по румяным щекам бежит широкая сетка вен, тело понемногу оплывает, как свечка.
Мамино лицо не меняется, отчего я окончательно убеждаюсь, что она всё-таки иногда делает пластику, и в очередной раз отмечаю, как мало между ними общего. Папин рост – метр шестьдесят три, мамин – метр восемьдесят без каблуков, но без каблуков она не ходит, дура она, что ли. На ней платье-халтер цвета пыльной розы (видишь, мама, я помню, что это называется халтер, видишь, я помню, что это называется цвет пыльной розы), она вновь перекрасилась в блондинку, и ей это очень идёт. Я хочу сказать ей обо всём этом и не могу, и она как будто тоже не может со мной говорить, она, всегда такая общительная и деловитая. Увидев меня, папа сразу же принялся обнимать меня, тормошить, а мама просто стояла в стороне, переминаясь с ноги на ногу, а потом неловко пробормотала:
– Ну, здравствуй.
В машине папа совсем разошёлся: то и дело лез обниматься то ко мне, то к маме, хлопал меня по плечу, травил анекдоты один другого глупее и сам же хохотал, а под конец вообще затянул какую-то лагерную песню:
– Дави на газ, водила дорогой,
Ведь человек как два часа освободился.
Всё это время мама молчала, с силой сжимая руль, и лишь когда дошло до пения, совершенно не попадающего в ноты (видите, Лев Леопольдович, я слышу, когда не попадают в ноты), повернулась к нему и сказала:
– Лёнь, заткнись, пожалуйста.
Сейчас она произносит третью фразу за те два часа, что мы вместе.
– Да, мы сделали ремонт, говорит она тем голосом, каким говорит всегда, готовясь защищаться, – но в твоей комнате ничего не трогали.
Я очень хочу увидеть наконец свою комнату, её малиновые стены, жёлтый стол, оранжевый диван и в довершение ко всему оранжево-жёлто-малиновые шторы. Всё это я выбирала сама под яростное шипение мамы и восклицания папы, что нельзя мешать ребёнку, то есть мне, самовыражаться. Ну, она досамовыражается, говорила мама, ещё ничего не вкладывая в эти слова. В этой комнате чокнуться можно, говорила мама, ещё ничего не вкладывая. Вы оба психи ненормальные, говорила мама, ещё ничего не.
Я больнее закусываю губу и стараюсь думать о своей комнате. О гитаре, которую я наконец возьму в руки и выясню наконец, могу ли я ещё наполнить этот мир хоть какими-то мелодичными звуками или уже никакими не могу. О куклах, которым я так любила шить наряды чёрт знает из чего, о том, как я возьму их в руки, хранительниц моих снов и бессонных мыслей, и снова посмотрю в их пластмассовые и фарфоровые лица, в их стеклянные и нарисованные глаза, и они расскажут мне, как они тут без меня, и я расскажу им, как я там без них. О папиной картине, на которой изображены два жирафа с мамиными лицами. О своём верном компьютере, теперь, конечно, уже старом и несовременном, и о личном дневнике, который там хранится – я так хотела перечитать этот дневник, я так хотела понять, какой я была до всего. Эта сучка, завотделением, велела мне вести дневник и там и даже всучила тетрадь, но я изрисовала её мужскими половыми органами и вернула обратно. Может быть, если бы я этого не сделала, меня начали бы отпускать домой по выходным ещё раньше, но, чёрт возьми, она меня выбесила. Что я должна была записывать в этот дневник – день сурка? (видишь, папа, я помню этот фильм, и другие тоже помню, и если ты включишь мне что-нибудь новое, я всё там пойму, честно!) Не говоря уже о том, как я не хочу, чтобы она его читала.
Я очень хочу скорее отправиться в мою комнату, расположенную в самом конце коридора, но меня опережает чёртова кошка. Она поднимается с пола, и, высоко задрав хвост, похожий на туалетный ёршик, идёт вперёд с видом патриарха семейства. И тут я не сдерживаюсь и жмусь к папе, ища защиты.
Он крепко обнимает меня, я чувствую его запах, такой родной запах гуаши и домашней еды, и всё-таки рыдаю ему в плечо, в глубине души надеясь, что он примет мой порыв за слёзы умиления. Но меня всю трясёт, и папу не обманешь: он прекрасно понимает язык моего тела, даже лучше, чем его понимаю я сама.
– Твою комнату мы не трогали, – повторяет папа. Кошка царственно и неторопливо шествует туда. Я хочу сказать, чтобы её отсюда убрали, но в горле пересыхает, и я осознаю, что не смогу произнести ни слова даже здесь, даже в доме, который когда-то был родным, а теперь отравлен присутствием чужого страшного существа. Я тычу в неё пальцем и что-то мычу. До папы доходит первым. Он поднимает кошку на руки и быстро уносит наверх.
Я не знаю, в чём дело. Я всегда любила животных, и, как все дети, выпрашивала у папы то собачку, то хомячка, и несколько раз он уже почти готов был сдаться, но мама каждый раз театрально заламывала руки и говорила, что вот умрёт, и можем хоть слона заводить, и кончилось тем, что папа нарисовал здоровенного слона тоже с маминым лицом, и мама страшно возмущалась и хотела даже сесть на диету, но вы пробовали сесть на диету с моим-то папой? то-то и оно!
Но когда эта кошка подняла на меня глаза, мутно-зелёные, ничего не выражающие, я увидела в них что-то до боли знакомое, что-то, отчего к горлу подступил липкий холодный ужас, клейкий, обволакивающий всё тело, обволакивающий мысли, мешавший думать – а этого я боюсь больше всего, однажды перестать думать, превратиться в овощ, в бессмысленное существо, такое, как…
Вот оно что.
Осознание накрывает с головой. У меня подкашиваются ноги, и, не в силах больше стоять, я падаю на идеально отполированный пол прихожей, которая резко начинает кружиться перед глазами. Я смотрю, не отрываясь, на потолок и стараюсь думать хоть о чём-то, стараюсь хотя бы прокручивать в голове песню Наутилуса о комнате с белым потолком – как будто, чёрт возьми, бывают потолки какого-то другого цвета. По счастью, песня вспоминается, и даже слишком хорошо – что тоже плохо, потому что я выбрала явно не ту песню.
Я ломал стекло, как шоколад в руке,
Я резал эти пальцы за то, что они
Не могут прикоснуться к тебе…
Это песня о Боге, сказал папа. О том, что человек не может приблизиться к Богу, что их всегда будет разделять белый потолок. А мне всегда казалось, что она о любви. Мне кажется так и теперь.
Папа подхватывает меня на руки так же легко, как кошку – впрочем, во мне сейчас, наверное, ненамного больше веса – и уносит в мою комнату, ту самую, которую я столько времени хотела увидеть. Остаток дня он носится вокруг меня, поит из чашки водой, даёт таблетку, которую всучила ему завотделением, кормит с ложки своим фантастическим тыквенным супом-пюре, по которому я так скучала, но сейчас почти не чувствую его вкуса, что-то говорит, и я очень хочу понять, что, но взгляд мутно-зелёных глаз с расширенными зрачками по-прежнему стоит передо мной, и я ничего больше не понимаю. Мама стоит рядом и так же неловко переминается с ноги на ногу, и я думаю, что так её и не обняла, и думаю, что и хорошо, потому что ей, наверное, это было бы противно. Наконец таблетка начинает действовать, меня охватывает слабое подобие облегчения и вслед за ним страшная усталость. Я закрываю глаза и проваливаюсь в тяжёлый сон без сновидений, такой же, как всегда.
Проснувшись – может быть, прошёл час, а может быть, десять, я не чувствую – я слышу голоса родителей. Они стараются не шуметь, но им это не удаётся. Мама, как многие слабослышащие люди, думает, что и окружающие слабо слышат, и поэтому привыкла говорить слишком громко; а папа привык говорить слишком громко, чтобы его лучше слышала мама.
– И вот надо тебе было её сюда тащить? – спрашивает мама, по счастью, уже не сдавленным, а нормальным маминым голосом, отчего я делаю вывод, что её слова тяжело выходят лишь в моём присутствии, и эта мысль меня радует.
– Люд, ну откуда ж я знал-то? – виновато-растерянно отвечает папа. – Такой хороший котёночек…
– Я сейчас не о котёночке, – возмущается мама, и от этих слов у меня больно сжимается сердце. – Хотя и о нём тоже. Вечно натащишь чёрт знает кого. Почему мне, интересно, никогда не хотелось ни кошек, ни…
Она не заканчивает фразу, но сердце сжимается больнее от ледяного ощущения, что она хотела сказать «детей». Я не удивилась бы, услышав эти слова, но мне было бы неприятно их услышать. Раньше мама говорила, что без меня не добилась бы и десятой части того, чего добилась – но я всегда думала, что, конечно, это произошло не благодаря мне, а вопреки. Она так боялась раствориться в материнстве, погрязнуть, по её словам, в содержимом детского горшка и стать никем, что первые пять лет моей жизни с маниакальным упорством работала над вторым своим детищем, своей галереей, и пыталась попутно заниматься мной, но выходило плохо. Тогда папа научился менять подгузники, плести косички, спорить с продавцами, ругаться с воспитателями, разговаривать разными голосами за Барби, Синди и всех динозавриков из Киндер-сюрпризов. Он навсегда усвоил, чем нутрилон отличается от нутрилака, и, что если ладошки холодные, значит, температура растёт. Он до сих пор хранит на чердаке отпечаток моей младенческой пятки, вымазанной в краске, и голубую ванночку, в которой меня купал – то есть хранил их там пять с половиной лет назад, а что сейчас, не знаю. Мне вдруг хочется пойти и проверить, но не отпускает усталость и мысль о страшной кошке.
– Я приличный человек, – говорит мама, – я не могу так просто взять и выбросить животное.
– И не надо выбрасывать, – отвечает папа, – буду на выходных отдавать Чевтайкиным, а в понедельник забирать обратно.
– Замечательно, – мама фыркает. – Вместо того чтобы просто понять, что…
– Люда, послушай, – папа вздыхает, – врач сказала…
– Мне плевать, что сказала эта жуткая баба! – мама переходит на крик. – Я знаю своего ребёнка, я…
– Ты? – теперь кричит и папа. – Тебя никогда нет дома, ты даже завтра куда-то уходишь…
– Я тысячу раз сказала, что не могу отменить встречу с инвесторами!
Папа бормочет в адрес инвесторов что-то неразборчивое, очевидно, чтобы мама тоже не расслышала, а потом язвительно замечает:
– Почему-то я смог отменить всех учеников.
– Ну прости, пожалуйста, – мама хочет ответить что-то ещё более язвительное, но вдруг перебивает сама себя: – Ты мне костюм на завтра погладил?
– Конечно, – говорит папа, вкладывая в интонацию весь сарказм, на какой способен этот добродушнейший человек, – серый, как ты и просила.
– Господи, Лёня, я просила синий! – ахает мама, а потом они заводят долгий неинтересный спор на тему, кто целыми днями вкалывает как проклятый, а кто сидит на всём готовом и вот вообще не ценит того, который вкалывает, и моя усталость вновь начинает одолевать, но прежде чем вновь выключиться, я успеваю подумать – вот я и дома, и всё как раньше. Но эту мысль тут же сменяет следующая – ничего больше не будет как раньше. Всё отравлено, всё – чужое, и над всем этим сияет бессмысленный взгляд мутно-зелёных глаз.
Как это мерзко – вылизывать гениталии.
Б значит База
В день, когда ей исполнилось четырнадцать, Софья Сергеевна после урока подозвала её к себе и сказала:
– Ева, я поздравляю тебя с днём рождения.
Только Софья Сергеевна называла её Евой. Только Софья Сергеевна помнила, что у неё день рождения. И только Софья Сергеевна могла вынуть из ящика стола нечто, завёрнутое в грязновато-рыжую бумагу – сейчас такую называют крафтовой, а в начале нулевых это было просто убожество и больше ничего – и с торжественным видом ей вручить.
Внутри, разумеется, оказалась книга. Мысль о том, что Еву может интересовать что-нибудь кроме книг, никому и никогда не пришла бы в голову. Разумеется, если человек носит жуткие шмотки с чужого плеча на пять размеров больше – сейчас такое называют оверсайз, а в начале нулевых это было просто убожество и больше ничего – если он ходит в штопаных-перештопаных колготках и если все школьные годы просидел за первой партой совершенно один, то что ему дарить, как не книгу. Дуняша, ты такая начитанная, – противно пели другие учителя, и всё её тело каждый раз содрогалось от отвращения. В прошлом году их класс вела русичка, и каждый классный час становился для Евы пыткой. А вот Дуняша не курит, вот Дуняша не пьёт, вот Дуняша не красится как непонятно кто, вот Дуняша не обжимается с мальчиками в школьной раздевалке. Интересно, думала Ева, краснея как рак и неотрывно глядя в парту, она прикидывается или правда не понимает, что будь у Евы выбор, всё сложилось бы совершенно по-другому?
Но в этом году классное руководство взяла Софья Сергеевна. Которая не называла её Дуняшей. Которая не подчёркивала, что Евина начитанность происходит от желания нравиться старшим, казаться им хорошей, а вовсе не от невыносимой, тошнотворной реальности, от которой просто нужно куда-то убежать, хотя бы в книги; будь у Евы карманные деньги на клей, она бы лучше клей нюхала. Которая не переходила на личности на классных часах, предпочитая рассказывать какую-нибудь отвлечённую ерунду о дружбе, о предназначении человека или о чувстве прекрасного – всё равно никто не слушал. Которая искренне нравилась Еве, поэтому она сунула книгу в портфель, не взглянув даже толком на обложку, натянула улыбку и сказала – спасибо.
Неделю она так и валялась в Евином портфеле, а где-то неделю спустя Ева проснулась оттого, что у неё ужасно болело горло, слезились глаза и раскалывалась голова. В школу, конечно, она всё равно пошла, потому что лучше уж школа, чем мамашин выводок, которому нужно попеременно вытирать то носы, то жопы, – но первыми двумя уроками оказалась физкультура на лыжах, и суровый дядька физрук, только взглянув на Еву, сказал, чтобы она тут не выпендривалась и шла домой, всё равно её героизма никто не оценит и в олимпийский резерв её не возьмут. Тут, конечно, полкласса заржали, ну а другие полкласса просто не понимали, что значит олимпийский резерв. Но домой Ева не пошла, а забилась в раздевалке между пыльными матами и попыталась уснуть, но уснуть не получалось, и тогда она решила попробовать другой способ отвлечься от реальности и открыла-таки подарок Софьи Сергеевны.
Минут двадцать она почитала, а потом всё-таки провалилась в тяжёлый дрожащий сон, и то ли в книге, то ли в этом полусне-полубреду увидела то, что и определило её дальнейшую жизнь – мы никогда не можем сказать точно, что именно определяет нашу дальнейшую жизнь, не могла этого сказать и Ева, но идея, фантастическая идея именно там, в облезлой раздевалке между пыльными матами, начала формироваться в её разгорячённом мозгу. Следующим уроком была как раз биология, и, дрожа то ли от волнения, то ли от температуры, но всё-таки преодолев свою всегдашнюю робость при попытках с кем-то заговорить, Ева подошла к столу Софьи Сергеевны и тихо, чтобы никто не слышал, спросила:
– Скажите, то, о чём написано в этой книге… такое правда возможно, да?
Софья Сергеевна сунула в рот мятную конфету – она вечно грызла мятные конфеты, вечно мёрзла и вечно куталась в какие-то невообразимые не то шали, не то платки; сама она их вязала, что ли, или из жалости покупала у бабулек в электричках? В принципе, от Софьи Сергеевны можно было ожидать и того и другого. Вся она была какая-то мятая, серая, пыльная, но этим и нравилась Еве, как нравилось осознание того простого факта, что моль тоже бабочка.
– Что ты имеешь в виду? – спросила она. – Сам эксперимент или его последствия?
До последствий Ева не дочитала, но рассказывать об этом Софье Сергеевне ей не хотелось.
– Я о том, правда ли можно сделать человека из… – она замялась.
– Из животного? – подсказала Софья Сергеевна.
– Нет, не совсем из животного, а из… ну из Сёмушкиной хотя бы, – грудастая второгодница Сёмушкина, по слухам, успевшая переспать чуть не со всеми старшаками, была с точки зрения Евы предельно отдалённым от человека существом.
– Ну, – Софья Сергеевна вздохнула и попробовала невесело пошутить, – как видишь, примерно этим я и занимаюсь.
Ева хотела спросить, возможно ли взять неполноценное, как Сёмушкина, или даже ещё более неполноценное существо и путём определённых операций превратить его в нечто высшее – вот что по-настоящему волновало Еву, но от температуры бросало в жар, в глазах мутилось, и мысли куда-то разбегались; тогда она просто подцепила за хвост самую главную мысль и выпалила:
– Меня все спрашивают, кем я хочу стать – так вот, я хочу быть психиатром.
Конечно, ввиду подросткового своего максимализма она позволила себе сразу целый ряд допущений. Во-первых, никто никогда не спрашивал, кем она хочет стать, это было и так очевидно: отец – сторож на складе, в голове три извилины, мать – домохозяйка, извилин не обнаружено, в семье шестеро лялек и Ева за няньку, учиться некогда да и незачем. Во вторых – каким к чёрту психиатром после их-то всеми богами забытой школы, после которой если не спился и не сел, так уже, считай, пришёл к успеху?
Однако же Софья Сергеевна, святая женщина, не сказала ничего, что подумала. Не сказала даже – знаешь, деточка, я вот тоже в твои годы мечтала стать кардиохирургом, а не объяснять прыщавым гогочушим озаботам строение их собственных половых органов. Она лишь сунула в рот очередную мятную конфету и сказала:
– Ну ты же понимаешь, как много для этого нужно учиться?
– Значит, буду учиться, – пробубнила Ева, ковыряя пол носком уродливого ботинка, стоптанного чужой ногой.
Софья Сергеевна знала, что у Евы дома неблагополучная обстановка. Софья Сергеевна вообще знала о своих учениках почти всё – вообще всего она, разумеется, знать не могла. Поэтому она сказала Еве:
– Можешь после уроков приходить ко мне и заниматься.
Вот это был уже настоящий царский подарок, а не то что книга.
– Спасибо, – сказала Ева, – я приду.
И она приходила каждый день, потому что больше приходить ей было некуда, и каждый день занималась, потому что больше заниматься ей было нечем и потому что у неё наконец появилась мечта, в которую можно было уходить из тошнотворной реальности. Мамаша, конечно, пыталась возражать на тему, кто с детьми будет сидеть, но Ева твёрдо ответила – кто наплодил, тот пускай и сидит. От мамаши прилетело, потом ещё больше прилетело от папаши, но зато выяснилось, что если читать про аллельные гены два часа в тишине, а не десять минут во время урока, то не такие они уж и непонятные, эти чёртовы аллельные гены.
Софья Сергеевна жила одна, в её крошечной хрущёвке было тихо и чисто, не воняло горелой кашей и грязными трусами, и таким образом в кратчайшие сроки сформировалось ещё одно Евино представление о будущей жизни. Если Еве что-то было непонятно, Софья Сергеевна объясняла, но обычно обе молчали часами напролёт: Софья Сергеевна проверяла контрольную за контрольной, Ева впитывала страницу за страницей, и лишь иногда, оторвавшись от своих занятий, они обменивались несколькими фразами. Идеально, думала Ева.
А книжку, которая называлась «Собачье сердце», она так и не дочитала.
В значит восприятие
Когда я снова открываю глаза, видимо, ночь, потому что голоса стихли. Я поднимаюсь с кровати и медленно выхожу в коридор. Мне надо срочно что-то выяснить, я ещё не понимаю, что, но надо. Ванночку? – подсказываю я сама себе. Папину картину? Мамино пальто?
Я медленно скольжу по незнакомой квартире, в темноте ещё более незнакомой. Я вижу очертания неизвестных предметов мебели. Я вспоминаю, что у меня на мобильном был фонарик, и вспоминаю, что у меня уже два года как нет мобильного. Впрочем, я могу ориентироваться на ощупь.
Пальцы медленно гладят лакированный фасад кухонного гарнитура. Интересно, думаю я, какого он цвета и где теперь прежний, лазурно-голубой. Папа, конечно, без проблем бесплатно отдал бы его в хорошие руки, а мама, конечно, попыталась бы получить с этого какую-то выгоду. Дело не в деньгах, которых у родителей, судя по всему, по-прежнему хватало, даже несмотря на меня. Дело в маминой слабости извлекать выгоду из всего, из чего её только можно извлечь. Мама, если только она за это время не изменилась до неузнаваемости, никогда не упустила бы возможности продать старую мебель на Авито хоть за тысячу – интересно, сейчас ещё существует Авито? Интересно, сейчас ещё существуют тысячи?
Видимо, вот что я хочу понять: как изменился мир. Я слышала что-то по поводу пандемии, из-за которой родителей ко мне какое-то время не пускали, но сколько это длилось, я не помню. Говорю же, день сурка. Наверное, что-то изменилось с точки зрения политики, но политикой я никогда особенно не интересовалась, в отличие от мамы. Впрочем, если я захочу выяснить что-то об этом или о современных модных тенденциях, она мне расскажет – надо только дать ей понять, что я всё та же, что я готова слушать и слышать. Но что я пытаюсь выяснить сейчас, и почему мне так страшно?
Я сжимаю незнакомую круглую дверную ручку мокрой и липкой рукой, тяну на себя. Дверь распахивается, и я понимаю, что я в ванной. Ощупываю холодный мрамор и понимаю, что папа всё же убедил маму поставить ванну вместо душевой кабины. Молодец, пап, думаю я и пытаюсь улыбнуться, но у меня ничего не выходит; тогда я кончиками пальцев растягиваю рот и тут же вздрагиваю.
Рот у неё такой, что она может банан поперёк сожрать.
Зеркало, думаю я, мне срочно нужно зеркало. В ванной оно должно быть. Я толкаю дверь, и тонкая полоска лунного света заползает из кухни в ванную, высвечивает силуэты. Ага, у стены стоит тумбочка, значит, на стене должен быть выключатель. Я хватаюсь за какой-то крючок, скидываю на пол полотенце, поднимаю, утыкаюсь лицом в пахнущую лавандой мягкость. Натыкаюсь на что-то большое, судя по всему, стиральную машинку – зачем же они сюда её переставили? – и на пол, тоненько звякнув, падает что-то ещё. Так, если здесь машинка, значит, зеркало на прямо противоположной стене. Это же логично.
Рука сама упирается в выключатель. Есть!
Над незнакомым зеркалом включается подсветка, и я впервые за пять с половиной лет вижу себя.
И вижу, что я всё правильно предполагала.