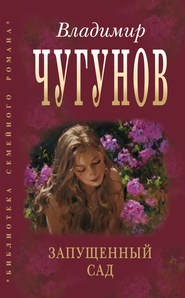скачать книгу бесплатно
Только влюблённым хочется лета,
Ведь у них дружба навек.
Этот высокий тополь
Им знаком давно.
Он желтеет, а с ним уходят
Дружба, любовь и тепло.
Скоро придётся расстаться
И, может быть, навсегда,
Но дружбу, вместе с любовью,
Они унесут в сердцах.
Останется воспоминанье
Большой и светлой любви,
Тех первых слов признанья,
Что в них любовь зажгли.
И хотя стихотворение не совсем правдивое, поскольку листва с тополей в августе ещё не облетает, и не было не только первого, а вообще никакого признанья, и всё «зажглось» само собой, без слов, зато совершенно точно передаёт моё душевное состояние.
Но уже с первого ответа на моё послание меж нами образовалась трещина.
Сашенькино письмо начиналось с краткой («неплохо») похвалы стихотворения, после чего на двух страницах подробно о том, что её выбрали комсоргом класса и теперь у неё и забот, и хлопот невпроворот («извини, даже с ответом задержалась»). Избрание своё она понимала как серьёзную ответственность, высокую обязанность и даже священный долг отныне быть для всех примером. Увы, на фоне моего ироничного отношения к комсомолии всё это выглядело карикатурой. Иначе любовь моя с первого письма пошла вразрез с Сашенькиной идейностью. Я не только не разделял её взглядов, но относительно моих представлений о любви они казались мне просто смешными. Была, правда, подаренная на прощание, несмотря на плохую примету, что, собственно, для неё, как комсомолки, не имело никакого значения, фотография, с которой я засыпал и просыпался. Часами разглядывая Сашенькино изображение, я не мог совместить столь милого лица с идейным медноголосием её писем. Она писала о несознательных членах отряда, тогда как я именно к такой несознательной когорте оболтусов принадлежал. В то время, когда мне хотя бы между строк хотелось прочесть нечто отдалённо напоминающее («они студентами были, они друг друга любили»), она писала о собраниях, о нарушениях дисциплины, о работе с несознательными членами коллектива. С кем-то она там всё время боролась, кого-то постоянно старалась откуда-то вытащить, чем-то общественно полезным нагрузить, тогда как я всеми правдами и неправдами от этого отлынивал. Если бы она писала хотя бы о погоде, я бы её понял. Но из месяца в месяц получать… даже и не письма, а какие-то заметки из комсомольского «Прожектора» было выше моих сил. Не удивительно, что ни одного стихотворения я больше так и не сочинил.
Короче, как только Сашеньку загнали в идейное русло, она постепенно перестала для меня существовать как человек. Её казённую мораль трудно было списать на юношескую наивность, как-никак, а всё-таки десятый класс. В то время даже в школе к нам относились как к взрослым, которых уже не надо было опекать. Нам позволялось то, чего не позволялось больше никому. Например, свободно проходить через кордон дежурных сквозь дожидавшуюся у дверей начала уроков толпу учеников младших классов. Дежурные пропускали нас, почтительно отступив назад. Весь год мы чувствовали себя элитой, с которой школе вскоре придётся расстаться навсегда. Двоюродная Сашенькина сестра на этот случай даже где-то откопала песню.
В тихом городе ветер кружится,
Свет в окошках давно погас.
Побеседуй со мной по-дружески,
Дай мне руку, десятый класс.
Здесь, влюблённые, до рассвета мы
Не смыкали счастливых глаз.
Мы делились с тобой секретами,
Наша юность, десятый класс.
Влюблённым да ещё до рассвета нам гулять тогда ещё не позволяли, но только об этом были наши мечты. И только об этом, хотя бы в иносказательном виде, мне хотелось читать в письмах от любимой девушки.
А вместо этого, читал:
«Если бы ты знал, как я презираю предателей! И не только предателей Родины, но и предателей вообще! В глаза говорят одно, а за глаза другое. Это подло! Этого прощать нельзя! С такими людьми даже здороваться не надо! Таким надо прямо в глаза говорить: «Ты поступил подло! Ты подлый человек! Я тебя презираю!» А иначе ничего и никогда мы не построим. Мне говорят, что я слишком много на себя беру. А я отвечаю: «Кто-то же должен говорить правду! Не только жить, но и поступать надо всегда по совести!». И вот что я тебе хочу сказать. Я долго думала над твоим индивидуализмом. Я не разделяю твоих взглядов, но я не могу их не уважать, потому что это твоё убеждение. И совершенно согласна с тобой в том, что жизнь отдать или чему-то посвятить можно только по убеждению. Когда нет убеждения, страдает главное. На своём месте я бы только честных и принципиальных учеников в комсомол принимала. И даже во всеуслышание заявила об этом. Зачем порочить ряды, допускать в них карьеристов? От этого страдает главное. Не хочешь быть комсомольцем – не надо. И без тебя обойдёмся. Но ради справедливости, не закрывать дорогу в учебные заведения. Пусть учатся и видят, как живут настоящие комсомольцы. А так получается, напринимали кого попало, и они всё дело портят. Кому это нужно? Не разделяешь взглядов – вон из комсомола!»
И в самом конце:
«Прости, опять я о своём. Как ты, как учёба, пишешь ли стихи, что у тебя новенького?»
А новенькое было совершенно из другой оперы. Вместо программных произведений по литературе мы с Ткачёвым, соседом по парте, тайком читали номера «Вестника русского студенческого христианского движения» за 1970 год, добываемые откуда-то его старшим братом-студентом – он, собственно, и заразил младшего всем этим, а тот – меня.
В № 97, например, на третьей странице была помещена фотография жизнерадостно улыбающегося Солженицына, с шкиперской бородкой, которому недавно была присуждена Нобелевская премия, а у нас шла травля. И об этом знали все, а вот что присудили не в простой день, как сообщалось во вступительной статье Никиты Струве, а в день памяти преподобного Сергия Радонежского, как и о самом преподобном, я узнал впервые из этого «Вестника». В том же номере я впервые познакомился со стихами Мандельштама. Особенно поразившее меня стихотворение даже переписал, не открывая имени автора, для Сашеньки. Интересно было, что она по этому поводу скажет. Приведу его чуть ниже, а пока выпишу то, что заинтересовало меня. Выписываю только мысли, не называя авторов статей.
«Коммунистические представления о должном и запретном распространились и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Атеистическое государство приводит к созданию сверхсистемы, из которой полностью исключена свобода, не какая-либо из частных свобод: совести, слова, собраний, которые исчезают с момента её возникновения, а свобода как таковая. Личность во всех планах своего общественного проявления попадает в чётко отлаженный и не зависящий от неё механизм чистой необходимости. В нём она даже теряет сознание своей собственной унизительной несвободы, теряет сознание, что она есть только средство для непонятной внечеловеческой цели, слепо осуществляемой общественным механизмом. Этому способствует всеобщая ложь, которая стала нормой существования».
Из всего этого мы с Ткачёвым сделали для себя только один вывод: мы никому ничего не должны, а сами по себе. И понятно ни строчки из этого я не переписал для Сашеньки. А вот стихотворение переписал полностью.
Пустует место. Вечер длится
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим
Напиток на столе дымится.
Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдёшь;
И на стекле не проведёшь
Узора спящими губами;
Напрасно, резвые извивы —
Покуда он ещё дымит —
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.
Она ответила, что «ничего из стихотворения твоего не поняла. Неужели сам сочинил? Для чего так туманно выражаешься? Первое было и проще и понятнее. Подозреваю, что ты просто попал под чужое влияние. Бери пример с Пушкина. У него всё просто и понятно».
Но Пушкина я тоже не уважал. И всё по той же индивидуалистической причине. Но написать об этом прямо не решился. Написал лишь, что «если бы поэзия исчерпывалась одним Пушкиным, скучно было бы жить». На что получил громоподобный ответ: «Да как ты можешь так говорить о Пушкине! Это же – Пушкин! Кто-то из великих даже сказал, что Пушкин – наше всё! Всё! Понимаешь?» Но я отказывался это понимать. Как это – всё? А я? А мой сосед по парте? А другие что, ничего не значат? По Сашенькиному мнению выходило, что «значат, но куда меньше, чем Пушкин». И этим меня ещё больше оскорбила.
Вторая мировая война началась из-за деда Щукаря. Как раз мы «Поднятую целину» проходили. И я выразил мысль, что самый умный из всей шолоховской книги – дед Щукарь, что Нагульнов – просто дурак, Размётнов – типичный приспособленец, а Давыдов – кроме всего прочего, ещё и подлец. «Это надо до такого докатиться – с женой друга переспать!»
Ответ пришёл аж на пяти страницах. Переписывать не буду, потому что ничего нового для себя не открыл. Почти слово в слово из программных сочинений по литературе: «Направляющая и руководящая роль партии в романе Шолохова «Поднятая целина». Тьфу!
В ответном послании, понятно, я выразился более обтекаемо, для большей убедительности приведя слова тёти Таи, разумеется, не назвав её имени, что в кулаки самые работящие угождали, а раскулачиванием занимались дебилы, вроде Нагульнова, и ничего в крестьянском деле не понимающая заводская шпана, вроде Давыдова.
В ответ пришло: «Расстреливать за такие слова мало! Так своей знакомой и передай!»
Разумеется, я не передал. Ещё чего не хватало! Может, ещё и отца с матерью заодно расстрелять? Они с тётушкой были одного мнения. Ну, и меня в придачу – я тоже их мнение разделял.
Третья мировая началась из-за фашизма. Вернее из-за того, что я сталинские порядки посмел с гитлеровскими сравнить. Мысль эту я выловил из того же «Вестника». Не вот напрямую: «коммунизм и фашизм – одно», а что-де очень похожие системы Сталин с Гитлером создали. И хотя на личность Ленина я не покушался, иначе бы уже не обыкновенная, а атомная война началась, всё равно вызвал очередное цунами.
«Неужели ты не понимаешь, что на незыблемость самого справедливого на земле строя замахнулся?!!»
А я никак не мог понять, причём тут строй, когда речь идёт о несправедливости в общечеловеческом масштабе?
Молчание длилось чуть не месяц. И я даже подумал, уж не попала ли под чью-нибудь оккупацию Астрахань и нам об этом, как о начале войны с Германией, из политических соображений не сообщают? Но нет, пришло-таки послание.
«Я долго думала и пришла к выводу, что ничего хорошего из нашей переписки не получится. Я не понимаю, или ты специально надо мной издеваешься, или ты на самом деле такой. У меня даже в мыслях не укладывается, как можно с такими взглядами жить! Это же просто аморально! Неужели ты этого не понимаешь? Или меняй свои взгляды, или я прекращаю с тобой все отношения!»
И вот я думаю, как быть.
Сижу порою по часу за письменным столом – и то уроню, то опять поставлю перед собой Сашенькину фотографию. Размышляю: «И почему красивые такие упёртые?» Было такое впечатление, что в груди у Сашеньки не простое, а железобетонное сердце. Из-за чего, собственно, прекращать отношения? Из-за каких-то слов? Мало ли кто и чего скажет! И из-за этого крушить любовь? А может, она меня и не любит вовсе? Может, она просто шефство надо мной взяла, а как увидела, что ничего путного не получается, так и пинка под зад? Вон, даже расстреливать собралась! Интересно, а расстреляла бы? И я пришёл к выводу, что во времена ЧК – шлёпнула бы, глазом не моргнув. И решил откровенно написать ей об этом.
Думаете, четвёртая мировая началась?
Я тоже так думал. А в ответ пришло: «Не говори глупостей! И причём тут – любовь? Любовь не из одних чувств состоит! Если бы из одних только чувств состояла, чем бы мы отличались от животных?» И вправду – ничем. И всё-таки я стоял за независимость во взглядах. Можно, писал, и не спорить. Живут же люди в одной семье с совершенно разными взглядами. Хотя бы в нашей семье. Отец, например, считал, если у государства не украдёшь, то и не проживёшь, и со спокойной совестью вставлял плёнку в счётчик, а мама его за это всё время осуждала, но плёнку не вынимала. Даже когда он говорил: «Не нравится – вытащи». А она ему: «Сам вставлял – сам и вынимай. Ещё не хватало, чтобы я этим занималась». И по другим поводам они радикально расходились. Например, отцу из-за порядка, из-за снижения цен на продукты, из-за дешёвой водки нравился Сталин, а маме из-за простонародной справедливости – Ленин. И что им теперь – разводиться? Это даже и обсуждению не подлежит. Вот если бы отец за кем-нибудь приударил – тогда понятно. Но из-за партийности и антипартийности – это же просто смешно. И я в мягких чертах написал об этом. Тем более, Сашенька сама уверяла, что уважает мои взгляды.
Молчание на этот раз длилось больше месяца. А потом пришло: «Да, я это писала. Но я же не знала, что ты додумаешься до такого. Всему же есть предел. А у тебя его, похоже, нет. И что теперь – всю жизнь ругаться? И потом, мама твоя не секретарь комсомола, не секретарь партийной организации. А посмотрела бы я на неё, когда бы она хотя бы на моём месте один день побыла. И потом, кому много дано, с того спросу больше. И когда столько хамства вокруг, хочется, чтобы хотя бы близкие люди тебя понимали и поддерживали. А они наоборот – только предают».
И всё равно я не мог лечь под её убеждения.
И вот опять сижу, производя экзекуции с фотографией. Всё никак не могу решить, что со всем этим делать?
* * *
И тут как нарочно подвернулся Новогодний бал.
Поскольку о нашей вечной дружбе не только в классе, но и по всей школе ходили слухи («Аж из самой Астрахани подцепил!»), если б кого и рискнул пригласить на танец, был бы неправильно понят, но белый танец снимал все подозрения.
И вот хотите – верьте, хотите – нет, но как в песне, «красивая и смелая», взяла и всей школе дорогу-то перешла. Иначе, на виду у классных руководителей, секретаря комсомольской организации и целых четырёх классов, прошла через весь зал и пригласила меня на белый танец.
И после этого я виноват?
Положим, от такого везения я чуть не свихнулся! То прикоснуться к слабому полу не смел, а тут… Ну, и понеслось, поехало… Тебя как звать?.. А тебя?.. Ты из какого класса? Что-то я тебя раньше не видел… Видно, не в ту сторону смотрел… И всё в таком роде.
Оказалась из девятого класса, с гордо вздёрнутой головкой, светленькая, в коротенькой юбочке, на каблучках. А глаза – просто синь поднебесная! Утонуть можно! Что со мною, можно сказать, и произошло. До того аж, что только с ней до конца вечера и танцевал – кроме быстрых танцев, разумеется. А потом провожать пошёл.
Такими глазами Кеша на меня ещё никогда не смотрела! Даже мороз по коже пробежал! Но я уже катился под гору – не остановить. Тем более, оказалось, что синеокой я уже давно приглянулся, да «ты всё не знай на кого смотришь». Я не стал уточнять, почему ни на кого внимания не обращал. Не знает – и ладно, глядишь, за первую любовь сойдёт. Ведь четыре раза уже до этого влюблялся – позор!
Но самое главное – мы с ней даже поцеловались! Как-то так, не пойми как, ткнулись сначала носами, а затем зубами – и друг над дружкой расхохотались.
– Ладно, – сказала, – пойду, а то мама сейчас выбежит. Видишь, занавеска шевелится? Ну что, спасибо, что проводил, а то я такая трусиха!
Ну а мне бояться темноты по статусу индивидуума не полагалось. И хотя идти было далеко, почти от конца соседнего посёлка, я преодолел расстояние, как во сне. И когда проснулся дома, в первую очередь достал Сашенькину фотографию и спросил:
– Что, дождалась?
И даже показалось, не такая уж она красивая. Лишь бы, думал, обман с рук сошёл, поскольку синеокую пришлось заверить, что до неё ни с кем я не дружил. Думал, проедет, а не тут-то было. Сразу же после новогодних каникул всё стало известно. В том числе и Сашеньке.
Таким образом, я оказался между двух огней.
Как из такого положения выкрутился, разумеется, расскажу.
Сначала произошла война с синеокой. На этот раз – настоящая. За такой наглый обман она дала мне, слава Богу, не при всех пощёчину. Потом пришло письмо от оппозиции.
«Я так и думала, что такие, как ты, ещё и не на такое способны! И не стыдно тебе? А ещё – индивидуум!»
И до конца учебного года, всем женским контингентом школы презираемый, я упивался совершенным одиночеством.
11
А к началу выпускных экзаменов неожиданно зацвёл заброшенный сад. Старые яблони, всю зиму неприятно поражавшие корявым уродством, до неузнаваемости преобразились. На них больно и радостно было смотреть. Такими же ослепительно снежными в дни выпускных экзаменов казались фартуки и бантики одноклассниц.
Но ещё до начала экзаменов, в день последнего школьного звонка, в доме Сидика Умярова наши родители позволили нам устроить первое праздничное застолье с вином. Чем окончилось застолье – припоминаю смутно, зато хорошо помню начало. Не понимаю, для чего надо было вино, когда мы и так были до нервного озноба возбуждены. Разумеется, были тосты, и все, как один, жизнеутверждающие. И таким плёвым после выпитого вина представлялось покорение предлежащих вершин. Не помню, о чём именно говорили, но говорили так громко, и главное, все сразу, что совершенно ничего невозможно было понять, и, тем не менее, все прекрасно друг друга понимали. Затем всё как бы стало отходить в сказочную нереальность и, наконец, совершенно потухло в памяти.
А вот выпускной вечер высвечивается от начала до конца. После торжественного вручения аттестатов мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться с учителями в последний раз, а потом для нас в спортзале запустили бал, так сказать, «на сухую». Но, прекрасно зная об этом, мы заранее сложились с ребятами и, улучив момент, сбегали к тому же Сидику Умярову. На этот раз всё происходило непразднично, впопыхах, в сарае. Быстренько разлили, выпили, что же касается закуски, всю обратную дорогу до школы усиленно жевали дольки резиновой конской колбасы. Насилу, помнится, её проглотил. Задержавшись ещё на малое время за оградой сада, как взрослые, покурили «в себя», и, когда нас окончательно развезло, с ощущением разлившейся по душе удали бурно влились в хаотично танцующий зал. Сразу же ринулись девичьи пары разбивать и никаких отказов уже принимать не хотели. Потом бегали добавлять ещё, и кто-то даже отключился, а затем всем классом потащились на станцию железной дороги, чтобы ехать на Нижегородский откос.
Ехали на последней электричке. По прибытии на Московский вокзал узнали, что канавинский мост для движения транспорта на всю ночь закрыт на ремонт. И уже ничего не оставалось, как только двинуть пешком, а идти надо было в верхнюю часть города сначала вдоль набережной, в сторону протянутой чугунным идолом руки, затем через вспыхивающий ослепительными «зайчиками» сварки тёмный мост, потом вдоль трамвайных путей, мимо нарядной Строгановской церкви, по тогдашней Маяковке, а ныне опять Рождественке, заключённой в плотную стену старинных многоэтажных домов, с выходящими на улицу витринами ювелирного, радиолюбительского, спортивного магазинов, входами в аптеку, оптику, предварительную кассу железной дороги и даже театр Комедии. Завершало шествие стеклянное кафе «Скоба», за ним, на той стороне Почаинского съезда, на площади у полуразрушенного Предтеченского храма, когда-то было положено начало судьбоносному ополчению на Москву. Начинавшаяся от северной стены обезглавленного храма узенькая улочка довела до нижнего входа в красно-кирпичные стены Нижегородского кремля.
И когда, наконец, через обширную кремлёвскую территорию, преодолев крутой затяжной подъём, мы поднялись на площадь Минина, меня поразило огромное количество собравшихся у памятника Чкалову празднично разодетых выпускников. Помимо стоявшего говорильного гула, в воздухе ощущалось тревожное возбуждение, какое бывает в театре перед началом представления. Чтобы не потеряться в толпе, мы инстинктивно сбились в кучку. И я с жадным любопытством всё вглядывался и вглядывался в незнакомые лица. Не знаю, почему, но все они казались мне совершенно от нас, пригородных, отличными. Было в их поведении больше раскрепощённости что ли. И в то время, когда в одном месте что-то пели под гитару, в другом заразительно смеялись или дружно хлопали в ладоши. Кто-то, придерживаемый за руку, ходил по брустверу смотровой площадки за спиной подсвеченного прожекторами Чкалова. Кого-то качали.
До восхода было ещё далеко, и другой берег реки едва угадывался в тёмном провале, а вот ближний, к которому спускалась широкая каменная лестница, был обозначен гирляндой уличных фонарей.
Площадь Минина поражала призрачной пустынностью. Два института (медицинский и педагогический), которые кому-то из собравшихся предстояло покорять, находились на ней. Тогдашняя Свердловка, а ныне снова Большая Покровка проглядывалась насквозь, но второго кумира, давшего название тогдашнему городу, не было видно. Вдоль могучей кремлёвской стены шелестели на ветру старые липы.
На откосе, обыкновенно, дожидались рассвета. И когда, наконец, зацвело васильковым разливом небо, и обозначился подёрнутый чешуёй величественный речной простор, сначала повисло безмолвие, даже дыхнуть было страшно, а потом кто-то крикнул:
– Солнце встаёт!
И тишину взорвало победоносно торжественное ура. Минут пять, если не больше, все только и делали, что кричали, свистели, прыгали, кружились, толкались, хлопали стоявших рядом по плечу, гонялись друг за дружкой вокруг толпы.
И когда окончательно занялось удивительно погожее утро, стали потихоньку расходиться: кто по лестнице к набережной, кто по площади к остановкам, а мы, войдя через Дмитриевскую башню в стены Кремля, тою же дорогой спустились вниз. Сфотографировались на скамейке. И, наконец, добравшись, опять же пешком, до вокзала, едва стоявшие от усталости и бессонной ночи на ногах, на первой электричке уехали домой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: