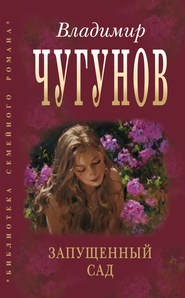скачать книгу бесплатно
Бабушка встаёт с табурета. Прихватывая тряпицей, снимает с творила заслонку. По избе растекается запах печёного хлеба, аппетитный, так и сглатываешь слюну. Бабушка поддевает хлебы деревянной лопатой, кидает на стол и слегка смазывает куриным пером топлёным маслом, которое тут же впитывается в корку, треснувшую где-нибудь сбоку, и накрывает хлебы полотенцем преть.
Угли задохнулись в печи, почернели. Бабушка выгребает их, складывает в ведро, а потом в специальный сундучок с другими углями. Часть засыпает в самовар, запаливает лучины и, кинув их в горловину, приставляет трубу, втыкая её одним концом в самовар, а другим в «тягу» на печи. Самовар потный от холодной воды, тускло блестит медью.
– Это штой-то задумался? – спрашивает она его немного погодя.
Снимает трубу, заглядывает, а потом, сложив вчетверо полотенце, хлопает по горловине, как порой Сашке по голове. Приставляет трубу на место. Самовар, наконец, начинает сопеть, издаёт тоненький свист, поверхность подсыхает, становится зеркальной, и я строю рожицы кривому мальчику с широким, как у китайца, носом и сплющенной сверху головой. Когда самовар закипает, бабушка снимает трубу и накидывает заглушку – из пароотвода летят брызги.
12
Сквозь запотевшее оконце сочится тусклый осенний свет, на улице пасмурно и холодно, а здесь, в протопленной баньке, с выстоявшимся смолистым духом, жарко и уютно. Стены, потолок, каменка – всё чёрное, закопчённое. Тихо посапывает каменка. Дедушка трясёт над ней веником – подсушивает.
– Не жарко? А то поди в предбанник. Попарюсь, потом вас помою.
– Не-э, не жарко… – храбрюсь я, сидя на корточках на полу.
Тельце моё раскраснелось от жару. Я закрываю рот ладошками, чтобы не так горячо было дышать. Сижу на корточках, склонив голову меж колен. Пот бежит по лицу, попадает в глаза, в рот. Солёный, вкусный. Тело моё тоже покрывается капельками, как трава росой. Капельки набухают, а затем стекают грязными ручейками. Дедушка зачёрпывает из таза, где недавно парился берёзовый веник, и плещет на каменку. Камни взрываются белым облаком, пепел вместе с жаром садится мне на спину. Я дышу часто-часто и всё одно задыхаюсь.
– Деда, жа-арко, деда, – хнычу я и ползу к дверям.
Дедушка осторожно, чтоб не обжечься о пар, слезает с полки и отворяет мне дверь. Я быстро выползаю в предбанник, дверь захлопывается.
«А как в Аду?» – думаю я, припоминая бабушкины истории о мучениях грешников. Предбанник мне теперь представляется Раем.
Сашок сидит на лавке и наблюдает за мухой, которой он оторвал одно крыло. Муха прыгает, переворачивается на спину и дрыгает лапками. Братцу это кажется забавным. Я сажусь на лавочку, устало опускаю руки на колени. Плечи тяготит, голова кружится, сердце бьётся сильно, слегка подташнивает.
– Сто, упалилса? – спрашивает Сашок.
Он уже замёрз сидеть тут, кожа на нём гусиная, а всё равно не идёт в баню, боится.
– А жарко как!
– У нас самая залкая баня в дилевне, – хвастается брат. – А папка ыссо сыбсе палица. Лас, лас себя веником-ти. Выбезыт – и в снегу валяца. А потом ыссо палица.
– А ты что не паришься?
– У меня баска клузыца. Один лаз я дазы о сюгунок тлеснулся. А вылосту, тозы буду палица.
Минут через десять выходит дедушка. Он долго сидит отпыхиваясь и постанывая, глядя нас мутными глазами. Наконец приходит в норму, открывает отдушину, слегка выстужает баньку, и тогда мы с Сашком идём мыться. Сначала дедушка моет нас самих (как обычно в банях), а уж потом, под конец, наши головы. Моет щёлоком, который получается, если печной золы положить в воду, когда она осядет, постоит, получится щёлок. Волосы от него становятся мягкими, нежными, как шёлковистый кукурузный покров на початках.
Из баньки выходим затемно. И я, шагая по тропке, среди вишен, чувствую своё горящее лицо, лёгкость и приятную задумчивость в голове. На столе блестит самовар, чаёк душистый, со смородиновым листом. Сахар наколот маленькими кусочками, которые долго и приятно тают во рту, когда прихлёбываешь из блюдечка. Пот бежит по лицу, и я вытираю его полотенцем.
13
– Сидит это она перед зеркалом в бане, спиной к двери. Глядит, отворяется дверь и входит суженый. Касивый, нарядный, статный. Залюбовалась она на него и забыла зеркало-то перевернуть. Он ей ожерелье на шею одевает, норовит обнять, тут уж она испугалась, перевернула быстренько зеркало, глянь – а на шее удавка. Ещё бы чуть-чуть и задушил.
– А я помню, в девках забежишь за амбар, портки снимешь, голу задницу выставишь за угол и ждёшь. Коли мягкой лапой погладят, богатый жених будет, а шершавой, так – бедный. Так кто-то шутейно раз и приложи мороженой лопатой, три дня сесть не могла. Девки смеются: «Нюр, богатый ли жених выпал?»
Мы с Сашком ловим с печи каждое слово. Разговор начинается потихоньку. У того корова приболела, вымя твёрдое, серпу не жуёт. У того овца отбилась от стада ягниться в лес, и третий день не выходит. Но когда тьма становится гуще в прорези белых занавесок, в избе словно пропадают стены, мрак по углам, жёлтое пятно ползает по закопчённому потолку, над поскрипывающим зонтом керосиновой лампы. В красном углу заветно порхает спасительный огонёк лампадки. Речь заходит про Ивана Зыбина. Женщины спорят. Одни говорят, враньё, другие, нет, в самом деле, замечали неладное.
– А вот что дедушка тяте сказывал после соборования. Дело у него вышло по молодости с Зыбиным-старшим, что летось на огороде помер с полным ртом земли. Был, говорит, я тогда лет шестнадцати, было у них семеро детей в семье и все девки, он поскрёбыш. Баловали его сызмальства, а в лета вошёл, совсем от рук отбился. Отец видит, маху дал, завёл разок в амбар, да отходил плетью. Два дня лёжкой лежал. А чего добился? Нет, ты учи дитя, пока поперёк лавки лежит. Только озлился парень. «Погоди, думает, тятька, отольются тебе мои слёзы!» Замкнулся. А тут старик Зыбин, как ворон добычу учуял. То да сё, и уговорил малого. Сладились сойтись в полночь у того на сеновале. Приходит, а старик уже ждёт. «Летучая мышь» чуть горит. Лошадь фыркает, копытом бьёт. А собаки по деревне развылись – страсть. «Готов, парень?» – Тот: сказал, дак чё? «Сымай, говорит, крест». Снял. «Клади под левую пятку». Не ослушался. «А теперь, говорит, прыгай». Тот глянь: а под ним геенна огненная. Он со страху-то и перекрестись. Так куда чего делося. Старик аж задрожал от злости: «Догадался, щенок!»
– А ну тя, Нюра, врёшь ты всё! – машет на неё рукой бабушка, а сама крестится.
Нюра божится, вытараща глаза. Все молчат. Тихо. Когда немного уляжется страх, подпустят ещё. Мы ни живы, ни мертвы. Но больше всех мне нравится слушать бабушку, проникновенный певучий голос её у всех вызывает слёзы, не важно, о чём бы ни заговорила.
– Шла, стало быть, Она, Заступница наша, под видом странницы по заметеленной дороге, – начинает бабушка, глядя куда-то в угол, са ма в необыкновенном волнении, точно всё это сейчас и происходит у неё перед глазами. – Ночь выдалась морозная, ветер колючий да хваткий. Подходит она к одной деревеньке, где жили не то кулугуре, не то татаре, Бог весть, что за люди такие, только все, как один, непутёвые. Стучится в крайнюю избу: «Пустите, люди добрые, переночевать». «Самим спать негде. Иди своей дорогой», – был ответ. Во втором дому ещё и обругали. В третьем собакой давай травить. И так вся деревня. Она же просто измучилась от долгого пути, шла спасать грешников по распутьям и никто Её признать не хотел. Зашла Она на зады, села и заплакала. И вот, откуда ни возьмись, набежала на деревню туча, загремел гром, засверкали молнии. Пророк Божий Илья, заступник обиженных, разгневался на жестоких жителей. Запылала деревня. Понеслось пламя по ветру от избы к избе. Поскакали все на волю, кто в чём был, скотину с хлевов выпустили. Крик, стон, скотина ревёт, а слёз что!.. Она же, Матушка наша, увидев горе народное, сжалилась над непутёвыми. Не вмещало Её сердечко обид. Сняла с себя покров, подняла на руках. Увидел Илья спасительны омофор – и отступился.
Напряженное молчание, вздохи, всхлипывания и сквозь слёзы Нюрино:
– А-и мы-те все хуже татарвы: нелюбовные, неблагоданые, завидущие!..
14
Подходит, наконец, день разлуки. Не знаю, так ли мне хочется домой, в свой пригородный «совхоз», но на душе у меня тоска который день подряд, куда-то всё тянет, чего-то хочется. Я многое уже начинаю понимать иначе. Как? Этого я ещё объяснить не могу. И только всё чаще как бы с удивлением оглядываюсь вокруг, словно в ожидании подарка. Бабушка все вечера напролет рассказывает свои истории, но они уже не так действуют на меня, я скучаю и даже порой плачу по ночам.
Но вот подкатывает к дому «Победа», которую отчим взял напрокат. Появляется мама. Я реву и жмусь к её ногам.
– Эх ты-ы, ревушка-коровушка, дай молочка, – говорит мама, гладя меня дрожащей рукой по голове. – Погляди лучше, кого мы тебе привезли! Сестрёнку Ирину.
Глянув на перевязанное красной атласной лентой одеяло, я ещё пуще заливаюсь слезами.
– Не хочу Ирину, хочу домо-о-ой…
Все входят в избу. Ирину определяют в люльку, которую принёс откуда-то дядя Степан и приладил на веревках к кольцу в матице, распеленывают. Я подхожу и с неприязнью разглядываю малышку. Лицо коричневое, нос пу говкой. Я злюсь непонятно от чего и всё мечтаю обрезать ножом верёвку, чтобы люлька с сестри цей грохнулась об пол. Но вскоре сестра просыпается. Мы смотрим друг на друга, она улыбается, открыв потешный беззубый рот, злость моя проходит, и всё время до нашего отъезда я нянчусь с сестрицей, трогаю украдкой от мамы «грязными руками» её розовые прозрачные пальчики, пятки, мягкие, как у Барсика, помогаю купать, подавая то мыло, то ковш.
И вот уже – ясный погожий денёк, бабье лето, летят по воздуху паутинки, садятся на голые кусты смородины, на стебли пижмы, полыни. Нас провожает почти вся деревня. Бабушка закладывает снедью всё свободное пространство в машине. Прощаясь, плачет. Дедушка подымает меня на руки и, вынув из кармана пастушью дудку, дарит на память.
– Держи, пастухом будешь!
– Ещё напророчишь… – возражает мама.
– Не забудешь дедушку?
Я изо всей силы трясу головой.
Сашок незаметно суёт мне в карман рогатку.
В машине долго смотрю в заднее стекло. Едем. Сашок несётся следом, остальные стоят на дороге, сиротливо склонив головы.
Теперь нет ни деда, ни бабушки. Деревенька захирела, развалилась, как и многие деревеньки в нашем многострадальном отечестве. На месте, где стояли дома, на кучах битого кирпича, уныло качается крапива да лебеда.
Смотрю на погост, на высокий бурьян, скрывший могильные холмы с покосившимися, а кое-где упавшими крестами, и всё опять встает в моей памяти.
Царствие вам небесное, родные мои дедушка и бабушка, пусть всегда сияет Гришина луна над погостом, охраняя ваш вечный покой!
Школа
1
А всё началось с телефонного звонка. В понедельник позвонил Митя, бывший одноклассник, друг детства, и сообщил, что двадцать третьего апреля, в пятницу, будет отмечаться семидесятилетие школы, которую мы окончили тридцать девять лет назад, соберутся выпускники всех лет, хорошо бы увидеться.
Ни на одном из прежних юбилеев я не был, казалось бы, всё и вся забыл, а тут и засвербило, и потянуло на воспоминания, просто спасу нет, тянет и тянет, да ещё с такими подробностями, подумать только, столько лет пошло, а разволновался как школьник.
Накануне пятницы объявили штормовое предупреждение, и под утро разразилась самая настоящая буря. За окном сверкало, гремело и лило как из ведра, шиферное железо на крыше гаража ходило ходуном, полоскало по ветру космы берёз, переломило надвое липу у соседей напротив, и она чуть было не легла на электрические провода, хотя свет и так потух.
И по мере того как за окном разыгрывалась буря, во мне самом откуда-то из самого «далёка» подымалась буря.
Я лежал без сна, с открытыми глазами, и временами даже не слышал, что творилось вокруг.
Наконец, не выдержал, поднялся, отыскал в книжном шкафу среди кип потрёпанных журналов старый фотоальбом и убрался на кухню. Школьных фотографий оказалось немного. Первый, второй, седьмой классы, окончание десятого, последний звонок и выпускной вечер – не густо. И почти на всех снимках – наша первая учительница Анна Ивановна. Когда задают вопрос, за что мы любим первую учительницу, обыкновенно отвечают, за то, мол, что была она такая внимательная, такая добрая, такая отзывчивая, и всё это – то, да не то: мы любим первую учительницу за то, что она первая.
Интересно, жива ли, и если жива, сколько ей теперь – восемьдесят два-три?
На фотографии первого класса, сделанной на фоне школьного сада, выражения лиц у большинства хмурые («домой хочу-у», «где мама?»), у некоторых гримасы, и только двое на шутку фотографа улыбнулись. Девочки в белых фартуках, мы в гимназической форме с белыми воротничками, без фуражек. Сосчитал – тридцать девять учеников. Вот это класс!
Из первых лет учёбы помню лишь отдельные эпизоды. И в первую очередь – прописи в букваре, такими они казались необыкновенными, словно написанные каким-то волшебником. Даже у Анны Ивановны, когда писала задание в наших тетрадях, такими великолепными они не получались. У нас и подавно, хотя были, наверное, и пятёрки в тетрадях самых прилежных учениц. Из мальчиков, по-моему, никто не блистал в чистописании.
Парты тогда были не прямыми и не серыми, а наклонными и чёрными, с откидывающимися низами. Прямой была только верхняя узкая доска с двумя утопленными чернильницами-проливайками, а были ещё – непроливайки, в основном домашние, и если такую чернильницу уронить, содержимое не проливались. В те же, что находились на партах, дежурные перед уроками наливали из бутылок чернила. За ночь они, как правило, высыхали, и хотя были фиолетовыми, усыхая, отсвечивали болотной зеленью. Для ручек и карандашей рядом с чернильницами были выдолблены овальные углубления.
Во всех тетрадях имелись красные промокашки, из-за клякс быстро терявшие свою первозданную красоту. А вот бумага была отвратительная, серая, шершавая, постоянно цепляющаяся за железное перо, а уж если примет кляксу, то обязательно развезёт до форменного безобразия и непременно испортит настроение. Писать такими перьями, да ещё на такой бумаге было настоящей мукой. Стоило неосторожно выйти из нажима, и перо, защепив волокно, все старания сводило на нет. А надо было писать не абы как, а красиво, без клякс и помарок, почему предмет и назывался чистописание.
В старших классах писали авторучками, которые тоже надо было заправлять чернилами и почти каждый день промывать, поскольку, засыхая, чернила не хотели плавно поступать на перо и либо не писали, либо пускали кляксы.
По неискушённости своей дети доверчивы, поэтому до пятого класса были мы как бы на одно лицо: в одинаковой форме, у мальчиков чёлки, у девочек косички с бантиками, сначала прилежно носим октябрятские звёздочки, затем пионерские галстуки, учим одинаковые стихотворения, поём одни песни («Орлёнок, Орлёнок, взмахни опереньем…»), у нас общий идол – Ленин, и, следуя его «святому» завету, мы не лазаем в общественный сад не только за вишней, но даже за китайкой, которую у нас и за яблоки-то не считали.
О космонавтике, по-моему, и говорить не стоит. Кто из нашего поколения ею не бредил, не мечтал стать космонавтом, чтобы полететь на Луну, на которой тогда побывал один Незнайка, или к краснокожим, недоразвитым (а то бы сами давно прилетели) марсианам? И я всё, помнится, недоумевал, как могут они там, на Марсе, жить, когда всё вокруг – вода, трава, листья, цветы, овощи, фрукты – красное, и вдобавок ко всему кровавые у всех зубы и глаза? Нет, не хотел бы я жить на Марсе.
Поскольку тогда мы свято верили, что Бога придумали питекантропы «от страха к грозе», вера в Него представлялась нелепой и смешной, а все её последователи необразованными невеждами. Попадались, правда, среди них люди неглупые – Пушкин, Гоголь, Достоевский, например, – но и они представлялись немножко недотянувшими, поскольку, сами посудите, жили при свечах, ездили на лошадях, ничего не знали про синхрофазотроны…
Помню игру в молодогвардейцев. Штаб находился в бывшем курятнике нашего сарая – метров десять квадратных клетушка с потолком, полом, на который девчата для уюта постелили старенький домотканый половик, а на маленькое оконце повесили занавеску. Мы с ребятами из старых досок сколотили стол, лавку. Из фанерного почтового ящика и медной проволоки соорудили рацию для связи с Москвой. Ульяной Громовой единогласно избрали самую боевую и разговорчивую из нас, Валю Фокееву, а по школьному Кешу, дочь учительницы (не нашей, а на класс старше). Мне за кучерявость досталась роль Олега Кошевого. И вот чего в пику фадеевскому роману мы не могли допустить, так это сбросить себя в шахты, поскольку в отличие от молодогвардейцев не оказалось у нас предателя (никто не захотел быть), а значит, были мы неуловимы, но ради справедливости – не неуязвимы, и всякий раз по возвращении с опасного задания девчата перевязывали наши раненые головы и поили замечательной колодезной водой (раненые же всегда просят пить: «сестра, воды») и кормили чудесным хлебом из глины. Поджигать обычно ходили соседние сараи (немецкие склады с боеприпасами), зато под откос пускали уже настоящие поезда (в километре от штаба проходила железная дорога на Москву), так что ни один вражеский поезд к столице нашей Родины на нашем участке фронта не прорвался. Другие подробности помню смутно. Зато хорошо помню, когда нас выследили, мы ушли в партизаны и в нашем ельнике, куда зимой ходили кататься на лыжах, полдня копали землянку. До мозолей. Но таким это оказалось тяжким занятием, что глубже метровой, полтора на полтора ямы, одолеть нам так и не удалось. И уже ничего не оставалось, как только вернуться к мирной жизни.
В связи с этой историей припоминается инсценировка о войне. В светлом коридоре старой деревянной школы накидали на пол сена и устроили что-то вроде партизанского лагеря. Девчата в раздобытых где-то гимнастёрках и пилотках кружком сидели у декоративного костра, над которым висел котелок, и пели военные песни. Представлялась этакая романтика войны. Мы даже не задумывались о том, что война – это мухи, вьющиеся над смердящими трупами, оторванные ноги и руки, море вшей, грязь, болезни, иначе – такое, что нельзя передать словами, невозможно изобразить, и даже сами фронтовики охотно бежали от пережитых ужасов в романтический вымысел киношных и детских постановочных войн. А если подумать, даже порежь палец, когда разнесёт, ведь белый свет не мил. А тут – пуля, дай Бог, если навылет, а то и засядет, или осколком снаряда срежет кисть руки, разворотит живот, оторвёт ногу на мине, обожжёт до неузнаваемости лицо в горящем танке. Всё это я понял гораздо позже, хотя, может быть, и раньше, глядя на инвалидов Великой Отечественной, догадывался, почему не показывают в кино и не пишут на полотнах ужасов войны. Даже в военной кинохронике их в меру – как демонстрация зверств нацизма. А покажи всё, как есть, ни в кинозале не высидишь, ни дома картину такую не повесишь. Это уже потом, позже появятся выставки с изображением инвалидов Великой Отечественной, сначала голливудское, а затем и наше натуралистическое кино.
Моё поколение ещё застало инвалидов войны, собиравших подаяние в пригородных поездах и на базарах – на каталках, на протезах, с гармонями, балалайками. Потом они куда-то исчезли. Куда именно – никто не знал и вопросом таким не задавался. Ну, исчезли и исчезли. Неумолимое время стирало из памяти ужасы недавней войны, запрещалось (или не смели?) показывать их в кино, изображать на полотнах, описывать в литературе. Короче, запрещался весь тот натурализм, который, подобно помоям, обрушится на неподготовленного зрителя и читателя в девяностые.
По сравнению с другими, были мы, наверное, всё же поколением счастливым, которому достались в удел всего лишь остров Даманский («На Уссури под солнцем тает лёд. / Зима сгустила голубые краски./ Под лёд ушёл семидесятый год /– тех, кто погиб на острове Даманском») да взбунтовавшаяся Чехословакия, младшим братьям пострашнее – Афганистан, детям ещё более отвратительная по причине повального предательства, – Чечня. Что достанется внукам – судя по тому, что происходит сейчас в мире, не могу даже представить.
Ещё припоминаю, как на одном из школьных утренников Кеша прочитала забавное стихотворение, которое, наверное, поэтому осталось в памяти.
У меня трусы в горошек – хороши да хороши!
Все мальчишки приставают: покажи да покажи!
Ну, а ты, большой дурак, что не приставаешь?
У меня трусы в горошек – разве ты не знаешь?
Но ещё более вдохновенно в старших классах, разумеется, читала популярные в те годы стихотворения слепого Асадова («Парень со спортивною фигурой. / И девчонка – робкая душа…», «Они студентами были, они друг друга любили…») По рукам ходили затрёпанные книжечки сборников его стихотворений. Тёмные очки придавали его поэзии нечто романтическое.
2
Вряд ли этапами нашего взросления можно считать табеля успеваемости. Были тогда такие коричневатые складные открытки из рыхлого картона, с пятью столбиками успеваемости – четыре четверти, годовой итог и в самом низу отметка по «поведению». В младших классах, практически, у всех – примерное. Поэтому только с пятого или даже с шестого класса, когда мы узнали, что такое второгодники, в нас стало проявляться то, что принято называть характером. Проявлялся он помимо и даже вопреки тому, что на протяжении многих лет методически сеяли в наши души. Я не о знаниях, а о так именуемом долге. Все же тогда были перед любимой Родиной и Партией в неоплатном долгу. Октябрята, пионеры, комсомольцы – все должны были быть честными, принципиальными, непримиримыми, верными, целеустремлёнными… И во всём этом торжественно клялись. В стенах школы, на уроках, пионерских собраниях, слётах, митингах из говорильных дырок всё вроде бы правильно говорилось, и никто с этим даже спорить не собирался, но стоило выйти за пределы школы или зайти в мужской туалет, не только из говорильных дырок и носа, но даже из ушей некоторые ловкачи умудрялись табачный дым пускать. Писали или царапали на стенах и дверях неприличнейшие слова, связанные, как правило, с собственным происхождением (никаких аистов и никакой капусты!), играли в трясучку на деньги, безжалостно расстреливали невинных птичек из рогаток, зорили вороньи гнёзда, топили в норах полевых мышей, вели перестрелку бузиной из осиновых трубочек на переменах, подкладывали друг другу кнопки на сиденья парт, кропили чернилами уши впереди сидящих одноклассников с помощью расчёски и пера, и даже вместо уроков, сидя на замызганных портфелях в совхозном саду, играли в свару на деньги. Всё это считалось взрослой жизнью. И тех, кто не желал в ней участвовать, презирали, дразнили маменькиными сынками и даже били. Касалось это в основном нас, мальчиков. Девочки жили своей отдельной от нас жизнью. Разумеется, со всем этим безобразием боролись – осуждали, порицали, ставили на вид, выводили к доске, вызывали родителей, отсылали к директору школы, стыдили, оставляли на второй год, грозили детской колонией, старались хоть чем-нибудь занять. Кому-то помогало, кому-то не очень, а кому-то на всё это было глубоко наплевать. Поэтому только после восьмого класса, когда, наконец, схлынули все эти неучи и хулиганы, нас перестали делить на учеников из благополучных и не благополучных семей.
В те годы мир, рисуемый школьными учебниками, средствами массовой информации, кинематографом, большинству из нас представлялся таким чистым и светлым (во всяком случае, его будущая ипостась), что хамы воспринимались, как нечто пещерное, недоразвитое и отсталое. Не так уж и много их было (большинство просто подпадало под дурное влияние и лишь единицы росли в соответствующей обстановке), но именно эти хамы задавали тон поведения в подростковом периоде. «Не ходи к ним, не дружи с ними» – это мы слышали от своих родителей постоянно. Родители не понимали, что не ходить и не дружить – означало ни больше, ни меньше, как сидеть дома и не высовывать носа на улицу, а больше и ходить было некуда. В подростковый период, казалось, вообще без общения с ними нельзя было шагу ступить. И стоило прикоснуться, не столько затягивало, сколько давало тем повод и даже право считать тебя им обязанным. От этих прав и обязанностей страдало в основном среднее школьное звено, и только в старших классах наступала относительная свобода.
Тогда было принято считать, что человек с детства призван готовить себя к какой-нибудь общественно полезной деятельности (ты кем хочешь стать? а ты кем будешь?), на самом же деле, все готовятся только к созданию семьи. Ни одну работу нельзя любить больше семьи. И с самого детства девочки, например, готовятся к тому, как её обустроить, мальчики – как прокормить и защитить, и в то время, когда первые нянчат и кормят кукол, вторые – воюют, летят, едут, девчата в играх больше сидят, мальчишки – вечно куда-то мчатся. Совместные игры, как правило, сопровождаются любопытством к противоположному полу. Вопреки мнению взрослых дети рано начинают понимать назначение полов (надписи в школьных туалетах тому порукой). С возрастом любопытство усиливается и, переходя в обоюдный стыд, начинает кружить голову и возбуждать вполне определённые желания.
3
С этой минуты, на мой взгляд, и надо бы отсчитывать время нашего взросления.
Происходило оно у всех по-разному, и моё началось в старшем отряде пионерского лагеря, куда нас с двоюродным братом Сеней, моим ровесником, отправляли несколько лет подряд под присмотр работавшей воспитателем тёти Таи, Таисии Петровны. В тот год мы окончили седьмой класс, старший нас на пять лет двоюродный брат Женя, сын тёти Таи, – автомеханический техникум и по распределению готовился к отъезду на Сахалин. О старшем брате я упомянул не случайно. Думаю, всякому прошедшему школу дворовой жизни понятно, что такое старший брат. И хотя подзатыльники и пинки он отвешивал нам порой весьма чувствительные и учил далеко не одному добру, тем не менее, был единственной опорой и защитой. Характера же был горячего, на месте сидеть не мог и даже по лесу, собирая грибы, носился как лось, не угонишься. И нам, малышам, не раз приходилось проходить испытание на прочность в полуторакилометровом пути до станции железной дороги, и дорогу эту я запомнил на всю жизнь. Натаскивал нас брат и в беге сначала на короткие, а потом на длинные дистанции, заставлял качаться гантелями, эспандером, и если кто-нибудь начинал упрямиться, удалял от своей светлости увесистым пинком или трескучим подзатыльником, а поскольку это было равнозначно выбросу за борт корабля, приходилось смиряться. Несмотря на свою видимую расхлябанность, брат никакого отношения к уличной шпане не имел, хотя, как безотцовщина, вполне мог бы, но держала в ежовых рукавицах тётя Тая. Помню, как после окончания восьмого класса, когда брат пришёл домой «с запахом», тетушка отвесила ему увесистую оплеуху, и на моё удивление брат скулил в ванной комнате, как сопливый щенок. Теперь, надеюсь, понятно, почему наши родители со спокойной душой каждое лето отправляли нас в пионерский лагерь.
Однако тётушка за нами не особо следила, считая маленькими, и мы, частенько уходя за территорию лагеря, шатались по огромному сосновому лесу и наслаждались безграничной свободой – тянули кислый дым самокруток из дубовых листьев (гаванские сигары!), жгли костры, потрошили вдоль трассы телефонный кабель, выкусывая зубами разноцветные провода для радиолюбительских целей. И если по дороге в лагерь в автобусе следом за всеми нехотя пели: «Ах, картошка, объеденье, денье, денье, денье, / Пионеров идеал, ал, ал. / Тот не знает наслажденья, денья, денья, денья, / Кто картошки не едал, дал, дал», бредя по лесу, дружно выводили: «Как всегда, мы до ночи стояли с тобой. / Как всегда, было этого мало. / Как всегда, позвала тебя мама домой – / Я метнулся к вокзалу». Поскольку стоять да ещё до ночи нам было рановато, исполнялось всё это в виде хохмы и, чтобы скрыть друг от друга стыд вполне определённых желаний, мы, как идиоты, выкрикивали на весь лес конец припева – «Эей!» – и ржали как жеребцы. Далее этого дурацкого смеха комментарии не простирались. О том, что нам нравилась наша вожатая, не произносилось вообще. Была она старше года на три, с ответной на всякую шутку улыбкой, обнажавшей крепкие зубы, задорная, общительная, способная даже на ладан дышащего расшевелить.
Но вот однажды приехал Женя – с надменностью в глазах, ворот рубашки стоечкой, что называется, увидел – и, уж не знаю каким образом, мы очутились в лесу вчетвером. И это бы ничего, и более многочисленные толпы по лесу бродят, да посмел, видите ли, при людях, то есть при нас, пусть хоть и брательник, положить нашему идолу левую руку на плечи, правая при этом незаметно махала в районе таза кому-то ладошкой – сваливайте, мол. Мы непонимающе оглядывались – кому это он знаки подаёт, вроде, никого тут из посторонних нет, только свои? И, с недоумением пожимая плечами, естественно, никуда сваливать не собирались, даже после того, как длань превратилась в кулак. И долго немолчный стрёкот кузнечиков и завораживающее пение птиц сопровождало наше торжественное шествие, пока, наконец, не пришли в лагерь, после чего обнаружить нас брату не удалось, но и совершить плохой поступок – тоже.
Тётушка, сама того не подозревая, подогревала наше воображение, довольно живописно пересказывая содержание романа «В щупальцах спрута» – о женщине, полюбившей американского шпиона. Как это почему? Да потому, что в отличие от «наших деревенщин», был он «таким галантным кавалером, с хорошими манерами», водил «бедную женщину» в ресторан, дарил цветы – это шпион-то, враг заклятый! – а тётушкин взгляд заволакивался мечтательной грустью. Мы нетерпеливо торопили: «А дальше, дальше?» И хотя происходило это, практически, каждый вечер, и все перипетии сюжета мы знали наизусть, всё равно просили: «Таисия Петровна, а расскажите, пожалуйста…». И тогда начиналось. Приходили девчата из-за перегородки, усаживались на наши кровати, и все, затаив дыхание, слушали.
Для старших отрядов по воскресным вечерам устраивали танцы на низкой деревянной, ничем не огороженной площадке под аккордеон. Сеня хотя и был, по сравнению со мной, городским, но с девчатами ужасно застенчив. Немногим отличался от него и я и, тем не менее, отважился однажды пригласить девочку, в светленьком коротеньком платьице, на «медленный танец». Была она одного со мною роста или чуть повыше, тогда как большинство девочек были выше меня, тогда коротышки, чуть не на полголовы. Долго, помнится, не мог решиться, а потом всё-таки как во сне подошёл и пригласил. Девочка была не из нашего отряда, светловолосая, голубоглазая, с таким же, как у меня, выражением изо всех сил скрываемого чувства гордости и стыда на окаменелом лице. Я едва держал её за талию, она насквозь прожигала ледяными пальцами через рубашку мою хилую грудь. Мы неумело покачивались из стороны в сторону в такт музыки, больше всего на свете боясь глянуть друг другу в глаза. Только после того, как окончился танец, я подумал, что надо же было спросить, как её зовут. Пригласить же на второй танец или подойти познакомиться я не отважился бы ни за что на свете. И долго потом мечтал о том, что, когда вырасту, обязательно разыщу её и на ней женюсь.
4
Следующим этапом взросления был выпускной вечер у брата Сени и мой первый поход на Нижегородский откос с его восьмым «бэ» классом. Тогда была в моде только что исполненная Татьяной Дорониной песня «Я мечтала о морях и кораллах…», и её, не переставая, пели под гитару по дороге туда и обратно. Пели и «ес ту дэй», и переведённую на русский «гёл» – «помню как-то шёл я ночью по аллеям парка,/ чтоб взглянуть в открытое окно», – с оригинальным почему-то припевом – «о-о, о-о, гё-о, о-ол» – и много чего ещё. Большую часть пути вместе с нарядными толпами шли пешком. Перед этим тайком от родителей выпили сначала с «мужиками» в сарае по «пять капель» водки, затем под присмотром родителей у кого-то на квартире с «бабами» по «три глотка» шампанского, и весь путь до откоса ни одна из девчат не хотела верить, что, оказывается, и я тоже восьмой класс окончил. Все, как одна, оглядывая мою низкорослую щуплую фигуру и моложавую, без единого прыщика, физиономию с кнопочкой-носом и невинным взглядом младенца, в один голос уверяли: «А на вид – так класс пятый, ну шестой от силы, не больше, правда, девочки?». И тогда я настырно требовал задать мне какую-нибудь задачку по алгебре или теорему по геометрии – «Пифагоровы штаны на все стороны равны», – чтобы доказать им, что и я такой же «большой». Но о каких задачках может идти речь в такой знаменательный день? И потому только, что от «пяти капель» водки и «трёх глотков» шампанского был я вдребединушку пьян, а стало быть, безумно храбр, со всеми девчатами тут же перезнакомился, а у одной даже выпросил адрес и всё шептал ей, державшей меня с левой стороны под руку: «Я тебе обязательно напишу, вот увидишь!». Была она, как и прежняя, «лагерная», голубоглазой и светловолосой. С другой стороны меня тоже держала под руку девочка, и как-то её тоже звали, и на кого-то из артисток она, «как две капли воды», была похожа, но на кого именно и как зовут, убей, не помню. По правде сказать, и эту заспал бы, кабы не обнаруженный поутру в грудном кармане испачканного каким-то извергом пиджака адрес. Дома меня тоже не узнали. А кто ещё не узнал? Так одноклассницы брата. Собственно, из-за кровавой обиды и уехал. А то, видите ли, вчера в темноте я им намного старше показался! Надо ли добавлять, что именно поэтому никакого письма я так и не написал. И не просто изорвал в мелкие клочки и с яростью кинул на землю, но и затоптал в грязь с таким трудом выпрошенный вчера адрес. «Вы ещё пожалеете!» – едва сдерживая подступающие слёзы обиды, пригрозил я им всем в уме, но, увы, практически, до следующих каникул оставался таким же хлюпиком. Это уже потом, по окончании девятого я добровольно, а не из-под палки, займусь бегом, не считая простой гимнастики и полётов во сне, и первого сентября с удивлением обнаружу, что стану почти одинакового роста с самыми рослыми одноклассницами. Тогда же, после восьмого, я ещё тянул лямку пай-мальчика, хотя именно в ту осень был посвящён в душещипательную историю, которая якобы произошла с Митей, другом детства, на картошке, куда тот ездил от своего ПТУ. Суть дела излагалась в стихотворении:
Не могу рассказать, что там было в кустах:
Муки, радости, буйное пламя?
Лишь в послушных твоих, чуть дрожащих губах,
Больше не было слышно «не надо».
Был шедевр гораздо длиннее, но, думаю, и этого четверостишья достаточно, чтобы войти в курс дела. На мои наводящие вопросы Митя многозначительно ухмылялся, и когда я категорично заявил: «Врёшь!», потащил меня в город, на Ворошиловский посёлок, где в одном из слабоосвещённых бараков жила эта его на всё согласная «зазноба». Но мы её так и не дождались, к кому-то она ушла на день рождения. Второй раз ехать в эти трущобы я не решился, а потом Митя сообщил, что она ему изменила, долго переживал, топиться, слава Богу, не стал, и вскоре вместе со мной занялся спортом. До сих пор существуют фотографии, на которых мы в тайне от всех кидаем друг друга на песках.
Почему не в спортзале? Потому что как такового спортзала в нашем посёлке, считавшемся окраиной города и даже деревней, не было. Какое-то время организовали его в старом деревянном клубе, в котором до строительства нового, каменного, мы, ребятишки, смотрели фильмы, сидя или лёжа на полу. И если в старом клубе детские билеты стоили пятак, а взрослые гривенник, в новом – соответственно, десять и двадцать копеек и сидеть на полу было неудобно из-за высоты сцены. Да и мест хватало, к тому же особо популярные ленты крутили по нескольку дней подряд в два сеанса. И всё-таки старый клуб мы любили больше. А как удобно было сидеть или лежать, опираясь на локоть, на полу перед низенькой сценой! Особой популярностью пользовались, само собой, «Чапаев», породивший массу анекдотов (Василий Иванович, глядя вслед удаляющейся белой разведке: «Ух, пронесло!» Петька: «И меня – тоже»), «Александр Невский» («Кто с мечём к нам придёт, от меча и погибнет»), «Истребители» («Мы парни бравые, бравые, бравые, и чтоб не сглазили подруги нас кудрявые…»), «Небесный тихоход», кинокомедии «Волга-Волга» («Ты «кричи теперь» не кричи теперь, а кричи «совершенно секретно»), «Свинарка и пастух», и завершался репертуар индийскими фильмами, с нудными песнями и девушками с кнопочками во лбу, которых никому так ни разу и не удалось поцеловать. Так после открытия нового клуба, в старом, пока не снесли, и устроили спортзал. Как таковой секции бокса не было, зато шлемы и перчатки имелись, и нас, малышей, для потехи, как петухов, старшие ребята частенько заставляли биться на сцене до кровавых соплей, тогда как между собой почему-то никогда не дрались, хотя все, как один, тягали штангу и лупили грушу. Затем спортзал перекочевал в старый магазин, стоявший на стыке главной улицы с тротуаром, ведущим к новому клубу, – убогая одноэтажная засыпушка, куда собирались, к сожалению, не только из спортивных интересов, но чтобы раздавить пару пузырей, перекинуться в картишки, забить козла, пока притон, наконец, не прикрыли и здание не снесли. А вот в школьный спортзал, несмотря на низкие потолки, собирались уже исключительно из спортивных интересов. В нём же для нас, школьников, устраивали осенние, весенние, новогодние и выпускные вечера в сопровождении настоящего вокально-инструментального ансамбля.
5
Нашим первым классным руководителем была старшая пионервожатая Рената Ивановна, с которой мы сдружились, наверное, ещё и потому, что она нам ничего не преподавала, находясь на штатной должности «двигателя революции». Без заметных сучков и задоринок она довела нас до восьмого класса, после чего началась чехарда смены классных руководителей, приведшая в итоге к расхлябанности дисциплины. Сидели уже кто с кем и где хотел, а мы с Ткачёвым, соседом по парте, вопреки господствующему коллективизму, даже додумались до открытой пропаганды обособленности общественных отношений, в пику всему «человечеству» считая себя «индивидуумами», игнорирующими общественные нагрузки – собрания, самодеятельность, сбор металлолома, макулатуры… И доигнорировались. Нас не приняли вместе с классом в комсомол, что означало ни больше, ни меньше, как закрыть дорогу в высшее учебное заведение. А ещё потому не приняли, что на вопрос, для чего хотим вступить в комсомол, мы с юношеским максимализмом заявили, что не только в комсомол, но и в партию впоследствии намерены проникнуть для достижения исключительно меркантильных целей. («Все, мол, только ради этого и живут, и только прикидываются идейными»). Такого издевательства даже самый рядовой комсомолец не смог бы перенести, так что проникнуть в данную организацию нам удалось только через год, когда мы для видимости исправились, и ввиду стопроцентного плана, конечно. И получив необходимые для карьерного роста документы, занялись прежней «подрывной деятельностью», походившей больше на забаву, чем на действия по убеждению. Тогда никто и предположить не мог, во что подобного рода забавы впоследствии выльются. Государственный корабль на всех парусах уверенно шёл в исключительно правильном направлении, никому даже и в голову не приходило, что, оказывается, мы не мчимся, а стоим. По правде сказать, никакого стояния мы не наблюдали. Жажда новизны, как и во все времена юности, конечно, была, но это ничуть не умаляло радости от переживания текущего момента – очередной влюблённости, например, способной, казалось, развеять любой мрак. Да и мрака, собственно, никакого не было. Такими же упоительными были летние, осенние и весенние вечера, так же ослепительно цвели по весне сады, с шумом и гамом гнездились на вершинах тополей вороны и галки, жизнь ни на минуту не прекращала своего головокружительного течения, в которой мы чувствовали себя полноценными участниками торжества.
6
Следующий этап взросления относится к тому времени, когда в наши ряды влилось пополнение из расформированного 9-го «вэ» класса.
Тот год был особенно драматичным в моей жизни, поскольку благодаря одноклассницам брата и пэтэушной истории друга детства я, наконец, понял, что катастрофически отстаю в безнравственном и физическом развитии от уходящих в мир взрослых ровесников.
И это притом, что ни одна из стрел беспортошного (не я их такими придумал изображать) Амура не пролетала мимо моего сердца. Прежние были ничто по сравнению с теми, что полетели в меня с первого сентября. Очевидно, до этого античный персонаж пристреливался, теперь же разил наверняка.
Начиналось, как правило, с переглядывания. Как бы случайного. Раз глянешь, два глянешь… И вот тебе уже отвечают. Чем чаще, тем чувствительнее. Наконец, доходит до того, что ты боишься лишний раз повернуть голову, потому как стоит повернуть – и Амурашвили (по-грузински – сын Амура) простреливает тебя насквозь.
И всё же считаю, никакой такой первой любви нет, а есть только опыты, предваряющие создание семьи. Наверное, поэтому в каждой новой возлюбленной в первую очередь предполагалась единственная. То же самое у девушек. Во всяком случае, наше поколение в большинстве своём было таким. И я прекрасно помню, как на уроках (пока не сделают замечание), по дороге из школы, в школу, дома, о том только и мечтаешь, что вот, наконец, придёт время, и вы поженитесь. Разумеется, это были самые сокровенные, никому не открываемые мечты. А какую на первых порах они доставляли радость! Такое впечатление, что ты обрёл сокровище! Ни о ком и ни о чём другом ты думать не хочешь и не можешь! Время сладостное, но мучительное.
Я лично начал мучиться ещё до написания записки, с просьбой проводить после уроков – предложение вечной дружбы (а в юности всё представляется вечным) должно было быть высказано тэт а тэт и, разумеется, не в первый вечер. Если бы мы учились в первую смену, вряд ли бы я отважился и на записку, и на провожание, ибо идти один на один рядом с девушкой посреди бела дня, да ещё неся в руках два портфеля, да ещё когда ты ниже её на целых три сантиметра, было тогда сильнее самой сильной любви. А вот тёмным осенним вечером, когда никто не видит…