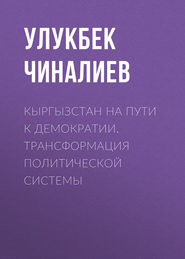 Полная версия
Полная версияКыргызстан на пути к демократии. Трансформация политической системы
Систему национальных противоречий и конфликтов в СССР, отмечал Н. Назарбаев, нельзя рассматривать в отрыве от общемировой тенденции. Пробуждение этничности в конце XX в. – факт не случайный. Это пробуждение имеет глобальный масштаб и не ограничивается пределами СССР. Национальный фактор сыграл решающую роль не только в разрушении колониальных империй, не только в становлении новых государств. Он проявился и в таких крупномасштабных явлениях, как послевоенное восстановление Германии и Японии, экономический рывок стран азиатско-тихоокеанского региона, объединение Европы. По существу все процессы, происходящие в мире в самых разных областях: в экономике, политике, идеологии, – так или иначе связаны с национальным фактором[70].
Отсутствие у руководства КПСС и СССР какой-либо реальной программы выхода из экономического, политического и идеологического тупика, обострение национального вопроса и просчеты в национальной политике привели к тому, что национальные республики, не видя действенных мер, предпринимаемых центром, сами стали проявлять активность, стремясь если не освободиться от «руки центра», то хотя бы ослабить его диктат.
Все кризисные явления, углубляемые противоречием с международным империализмом во главе с США, обострились к началу 80-х гг. К этому времени даже партийным ортодоксам стало предельно ясно, что так называемый развитой социализм давно уже находится в глубоком кризисе. К тому же внутренний кризис дополнялся внешнеполитическим, приводившим к падению авторитета СССР не только в мировом сообществе, но и в мировой социалистической системе.
Выход из тупика забрезжил после того, как в марте 1985 г. на высшие должности в партии и государстве был избран М. Горбачев, который, может быть, больше, чем кто-либо другой в руководстве страны, понимал необходимость кардинальных перемен.
Перемены начались как безобидная и привычная реформа «сверху», которая сводилась к трем главным моментам: гласность, ускорение, перестройка. Целью реформ, как неоднократно уверял М. Горбачев, была коренная реконструкция социалистического общества в целом, построение социализма с «человеческим лицом».
Сами по себе лозунги, выдвинутые М. Горбачевым, вполне вписывались в рамки марксистско-ленинской идеологии и существовавшей государственности. Но к середине 80-х гг. общество устало от многочисленных обещаний, созрело для радикальных перемен и не могло удовлетвориться «косметическими» мероприятиями.
В то же время реформы вызвали неприятие и недовольство со стороны партийной, советской и хозяйственной номенклатуры, увидевшей в них угрозу своей власти. Ведь М. Горбачев, по их мнению, посягнул на «святая святых» – саму партию. Действительно, М. Горбачев считал необходимым «возродить» в партии атмосферу принципиальности, открытости, дискуссий, критики и самокритики, сознательной дисциплины, партийного товарищества и безусловной личной ответственности. Он предлагал отказаться от командного стиля, выборы партийных органов проводить в демократической обстановке, обеспечивающей состязательность кандидатов, ограничить срок пребывания на выборных руководящих постах и, что более всего вызывало сопротивление партноменклатуры, разграничить функции партийных и государственных органов, что вело к ограничению власти партии6. Консерваторы в партийном руководстве, многие руководители республиканских, областных, районных партийных комитетов, работники многочисленного партийного аппарата если не открыто, то внутренне сопротивлялись таким предложениям.
В это время резко возросло влияние прессы, других средств массовой информации. Освобожденные в ходе перестройки от цензуры, они вскрывали истинные причины социального, политического, экономического кризиса, разоблачали злоупотребления номенклатуры. А поскольку реального улучшения ни в одной жизненно важной области не происходило, то М. Горбачев, ставший в марте 1990 г. Президентом СССР и сохранивший за собой пост Генерального секретаря ЦК КПСС, стал терять авторитет внутри страны. К тому же он обрел сильного и опасного оппонента в лице Президента России Б. Ельцина, поставившего одной из первых своих политических задач избавление от диктата всесильного центра, который олицетворяли М. Горбачев и Политбюро ЦК КПСС.
Сложные процессы происходили в союзных республиках. Все они в большей или меньшей степени были охвачены экономическим кризисом. В Кыргызстане в 1990 г. по сравнению с предыдущим годом произошло сокращение промышленного производства, в том числе уменьшились производство электроэнергии, добыча нефти, газа, угля, сократились валовой сбор зерна, овощей и бахчевых культур, выработка тканей, трикотажных изделий, обуви, всех видов посуды, мебели, бумажно-беловых изделий, сахара, мяса, рыбной и молочной продукции, животного и растительного масла, снизилось жилищное строительство в городах и городских поселках, упала рентабельность, но возросла задолженность предприятий по ссудам и взаимным расчетам[71]. В докладе на сессии Верховного Совета республики о программе стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике Председатель Совета Министров А. Джумагулов в октябре 1990 г. говорил: «В Киргизии около 140 тысяч безработных. Более трети населения имеет душевой доход менее 75 руб. в месяц или проживает за чертой бедности. Уровень национального дохода на душу населения составляет 53 процента от среднесоюзного. В очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий стоит 120 тыс. человек. Кстати, у нас 50 процентов общего ввода жилья осуществляется за счет населения (в стране – 17 процентов), 35 процентов учащихся занимаются в две-три смены (по Союзу 80 процентов в одну), обеспеченность детскими садами составляет 35,2 процента (по Союзу – 58 процентов), больницы на 10 тысяч жителей располагают 116 койками (по Союзу – 131). Не хватает дорог, водопроводов, лекарств. Высокая детская смертность»[72].
В то же время начатые реформы вызвали в Кыргызстане, как и в других союзных республиках, повышение политической активности масс. Все чаще звучали требования полного обеспечения гласности, замены скомпроментировавших себя руководителей и привлечения их к ответственности, полной реабилитации жертв тоталитарного режима, повышения функционального значения кыргызского языка, возрождения народных традиций, обычаев, национальных духовных ценностей. На этой волне стало организационно оформляться демократическое движение.
Обострился национальный вопрос. Из-за серьезных политических просчетов и упущений в вопросах землепользования, выделения участков под жилищное строительство и др. в 1990 г. в Ошской области произошли столкновения между кыргызами и узбеками, а затем между таджиками и кыргызами.
Эти трагические события, безвинными жертвами которых стали 238 человек, до предела накалили политическую обстановку. В столице республики г. Фрунзе летом 1990 г. начались голодовки, несанкционированные митинги, пикетирования. Власти не нашли ничего лучшего, как ввести в Ошской области и г. Фрунзе чрезвычайное положение. Пикетчики и голодающие выдвигали политические требования: отставка Председателя Верховного Совета республики А. Масалиева и его заместителя Р. Кульматова; отмена чрезвычайного положения; регистрация общественных организаций; принятие Декларации о полном государственном суверенитете и независимости Кыргызстана; обеспечение действительной свободы печати; разделение партийной и государственной властей и др.[73]
Определенное «неповиновение» стал проявлять Верховный Совет Киргизской ССР, избранный 25 февраля 1990 г. по новому, более демократичному избирательному закону. И хотя 89,5 % депутатов были членами КПСС, в него в результате альтернативных выборов попало немало демократически настроенных депутатов из числа ученых, работников народного образования и культуры, творческой интеллигенции, журналистов и др. Уже на одном из первых заседаний Верховного Совета Киргизии некоторые депутаты предложили включить в повестку дня вопросы о достижении национального суверенитета и независимости, введении поста президента, создании комиссии по выработке предложений относительно текста новой Конституции и государственной символики, учреждении парламентской газеты, независимой от партийного диктата, и др.[74] Стало ясно: парламент перестал быть «ручным».
Противостояние демократически ориентированной части депутатов, создавших парламентскую группу «За демократическое обновление, за гражданское согласие» (114 депутатов), и партноменклатуры еще больше обострилось при обсуждении в Верховном Совете в октябре 1990 г. ошских событий и особенно при избрании Президента. Выдвинутый партийной группой на эту должность Первый секретарь ЦК КП Киргизии А. Масалиев не набрал необходимого количества голосов, что явилось жесточайшим поражением партноменклатуры и ее кадровой политики. 27 октября 1990 г. первым Президентом Кыргызстана стал А. Акаев, бывший в ту пору президентом Академии наук Киргизской ССР.
Анализ внутриполитической обстановки в Кыргызстане летом и осенью 1990 г. показывает, что республика сделала первые, хотя и робкие, шаги по пути к демократии и государственной независимости. Кыргызстан присоединился к другим республикам, высказавшимся за суверенитет.
В Кыргызстане вопрос о суверенитете был поставлен еще в апреле 1990 г. на первой сессии новоизбранного Верховного Совета, но тогда его даже не включили в повестку дня. Этот вопрос был рассмотрен второй сессией Верховного Совета 30 октября 1990 г. Окончательно «Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан» принята Верховным Советом 15 декабря 1990 г.[75] И хотя принятая Декларация не решала вопроса о государственной независимости, а носила скорее характер заявления о намерениях, она сыграла важную роль в жизни Кыргызстана.
К осени 1990 г. СССР вступил в новую, заключительную фазу своей истории. Гласность привела к подлинной революции умов, общество резко изменилось, возросла политическая активность масс. Тем не менее из-за мощного сопротивления консерваторов и непоследовательности «архитекторов перестройки» во главе с М. Горбачевым ни одна из поставленных задач до конца не была решена: не обеспечен в полной мере политический плюрализм как обязательная составная реальной демократии; не достигнуто ускорение в социально-экономическом развитии; вопрос о самостоятельности предприятий и создании рыночной экономики погряз в многочисленных бесплодных дискуссиях; с большими трудностями продвигался вопрос о гармонизации отношений между центром и союзными республиками, которые должны были быть зафиксированы в новом Союзном договоре, и др. По большому счету, перестройка и не могла закончиться успешно. Начатая по инициативе М. Горбачева и его сторонников в КПСС, перестройка не имела новой идеологической платформы, политической и экономической стратегии. Она была направлена лишь на улучшение «реального социализма», его гуманизацию, в том числе и в сфере экономики, хотя ожидание и даже требование радикальных перемен в обществе было очевидным.
Успех реформ, их конечный результат во многом зависел от КПСС, которая оставалась руководящей силой советского общества и государства. Однако КПСС в лице верхушки и многочисленного партийного аппарата не была готова к радикальным переменам в общественных отношениях, сама оказалась неспособной к внутреннему реформированию. Поэтому КПСС в лице своих парторганов мощно сопротивлялась перестроечным устремлениям, стала тормозом перестройки. Именно это послужило опорой организаторам августовского (1991 г.) путча. Между тем группа демократов в высшем политическом и государственном руководстве страны не была сплоченной, объединенной общей идеей. В результате отсутствия единства демократы не проявили необходимой политической воли, так и не решились на кардинальные реформы, не выработали соответствующего плана и к реальной перестройке практически не приступили.
Несмотря на заметное оживление политической жизни, активизацию масс, большинством людей все события, связанные с перестройкой, воспринимались как борьба за власть, а не за интересы народа. Лишь в конце 1990 – начале 1991 г. народные массы в большинстве республик оказали серьезную поддержку демократам. Но к этому времени положительный потенциал идей перестройки был уже во многом исчерпан, КПСС все больше сопротивлялась преобразованиям. На этой почве начал формироваться своеобразный антикоммунистический блок. В результате стихийно возникавших и организованных атак КПСС к середине 1991 г. начала разваливаться на части, утратила роль руководящей и направляющей силы.
Что касается союзных республик, в том числе и Кыргызстана, то их партийное и государственное руководство, по сложившейся традиции, ждало исхода «битвы» в Москве, в ЦК КПСС, зная, что средний слой номенклатуры настроен против реформ и против М. Горбачева. В дальнейшем и обретение республиками независимости в конечном счете во многом зависело от того, по какому сценарию развивались события в Москве.
Вместе с тем было бы ошибочным оценивать перестройку только с позиций отрицания. Мы разделяем мнение Т. Койчуева и А. Брудного о том, что перестройка обозначила себя как «мирный революционный отказ от коммунистической модели общественного развития и поиск другой модели демократического общества… Перестройка сыграла свою историческую роль, и в целом она достойна уважения, а издержки ее на совести не тех, которые проводили ее и ошибались, а как раз на тех, которые сопротивлялись и противодействовали, так и на тех, которые равнодушно наблюдали… Перестройка пробудила душу, совесть, разум и стремление к действию»[76]. По сути, перестройка положила начало трансформации политической системы советского общества.
Между тем события в стране развивались лавинообразно. В марте 1991 г. состоялся всесоюзный референдум, на котором большинство населения высказалось за сохранение «обновленного Союза ССР», но это уже ничего не решало. Процесс дезинтеграции и суверенизации зашел слишком далеко.
Об отказе в подготовке к подписанию нового федеративного договора заявили Литва, Латвия, Эстония. Грузинский парламент провозгласил переход к «суверенной и полностью независимой» Грузии. Стремились выйти из Союза Армения и Молдова. Решительные голоса о полной независимости раздавались в Верховном Совете Украины. Работа над новым текстом федеративного договора шла трудно, обнаруживалось все больше противоречий между центром и республиками.
Кыргызстан принял активное участие в так называемом Ново-Огаревском процессе. 26 июня 1991 г. Верховный Совет республики в принципе одобрил проект «Договора о Союзе Суверенных Государств», но при этом было высказано немало замечаний и предложений. Принявший участие в его обсуждении Президент А. Акаев заявил, что при рассмотрении проекта Договора «речь может идти только о создании нового государства, с новым, принципиально иным государственным устройством». Резкую критику А. Акаева вызвало постановление Верховного Совета СССР о новом федеративном договоре, в котором дело представлялось так, «будто суверенитет государствам-участникам договора даруется в виде какого-то незаслуженного блага, с различными оговорками и условиями».
«Центр, – отмечал Президент Кыргыстана, – диктовал и продолжает в известных пределах диктовать условия жизни всем союзным республикам. Именно от такого Центра мы решительно должны отказаться»[77].
14 августа 1991 г. текст федеративного договора был опубликован. Однако он не мог удовлетворить ни центр, ни республики. Уступки, которых удалось добиться союзным республикам, носили скорее символический характер, не удовлетворяли их стремление к самостоятельности, к тому же механизм реализации многих положений не был разработан. В то же время консерваторы оценили его не больше и не меньше, как «распродажу Советского Союза».
Выступая под флагом защиты «Советской Родины и завоеваний социализма», консерваторы, вдохновляемые ЦК КПСС, 18 августа 1991 г. создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который объявил о переходе всей полноты власти в его руки в связи с болезнью Президента М. Горбачева и ввел в Москву войска. Соответствующих действий ГКЧП потребовал и от руководителей союзных республик.
В Кыргызстане известие о создании ГКЧП и его решениях было воспринято неоднозначно. Компартийная верхушка безоговорочно поддержала путчистов, что нашло отражение в заявлении бюро ЦК Компартии Кыргызстана от 19 августа 1991 г., принятом в ответ на соответствующую шифровку из ЦК КПСС. Заявление заканчивалось словами: «Мы призываем оказать всемерное содействие Государственному комитету по чрезвычайному положению в его деятельности»14. Демократические силы, во главе которых встал Президент А. Акаев, сразу же поняли, что в стране осуществлена попытка антиконституционного переворота, и выступили против него. Уже 19 августа Президент А. Акаев выступил с обращением к народу республики. И хотя оно, с учетом сложной политической обстановки, составлено в выдержанных тонах, в нем нет прямого осуждения путча. Обращение содержало такой важный акцент, как ссылка на Декларацию о государственном суверенитете республики. В нем констатировалось, что в Кыргызстане все «делается государственной властью под контролем и с согласия Верховного Совета республики, всех национальных и других общественно-политических объединений и движений, в обстановке гласности», подтверждается, что Президент попрежнему будет проводить «курс на укрепление гражданского мира и национального согласия, на повышение уровня жизни населения, на разгосударствление и приватизацию государственных предприятий, на поддержку активного и инициативного предпринимательства, на социальную защиту пенсионеров, молодежи, многодетных семей». «Как глава государства, – говорилось в обращении, – я сделаю все для защиты государственного суверенитета республики, для обеспечения общественного порядка и законности»15. Таким образом, обращение не только не поддержало путч, но своим содержанием прямо противоречило установкам и решениям ГКЧП.
В ночь с 20 на 21 августа 1991 г., когда обстановка была чрезвычайно сложной, а исход оставался неясным, родилось Заявление Президента Республики Кыргызстан А. Акаева, в котором путч 19 августа назван антиконституционным переворотом. Этот переворот, совершенный под предлогом спасения народа, в действительности направлен против народа, говорилось в Заявлении. «Смертельная опасность нависла не только над нашим суверенитетом, над нашими демократическими достижениями, над всем тем, что нам уже удалось сделать по налаживанию нормальной человеческой жизни. Речь идет о том, что на улицах наших городов и сел может пролиться кровь ни в чем не повинных людей, что наши дети, одетые в солдатскую форму, будут стрелять в своих отцов и братьев, матерей и сестер»16. В заключение Президент А. Акаев обратился к гражданам республики с призывом к единству и согласию, чтобы избежать великой беды.
В разгар трагических событий Президентом Республики Кыргызстан А. Акаевым был подготовлен и подписан указ, запрещавший всем войсковым формированиям, расположенным на территории республики, передвижение за пределы мест дислокации без разрешения Президента17. Другой указ лишал компартию монополии на власть и фактически низводил ее до уровня обычной общественной организации[78].
21 августа 1991 г. стало ясно, что путч провалился. Его организаторы были арестованы, КПСС как вдохновитель и организатор путча – запрещена. КГБ в результате реформирования и многочисленных разоблачений утратил свое значение. Армия отмежевалась от внутриполитической борьбы. Центральные государственные органы были парализованы и уже ничего не могли решать. Робкие попытки реанимировать так называемый Ново-Огаревский процесс, т. е. вернуться к подписанию нового Союзного договора, не увенчались успехом. М. Горбачев, роль которого в путче оставалась неясной, стремительно терял и авторитет, и власть. Союз ССР разваливался. Республики все настойчивее выражали стремление к самостоятельности, одна за другой стали провозглашать государственную независимость.
31 августа 1991 г. Декларацию о государственной независимости принял Верховный Совет Республики Кыргызстан. Но формально СССР продолжал существовать. Наконец 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) Президент России Б. Ельцин, Президент Украины Л. Кравчук и Председатель Верховного Совета Белоруссии С. Шушкевич подписали соглашение, в котором провозглашалось прекращение существования СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ) в составе России, Украины, Белоруссии.
Позднее, 21 декабря 1991 г., на встрече в Алма-Ате к соглашению присоединились Казахстан и среднеазиатские республики, в том числе Кыргызстан, а затем Азербайджан, Армения, Грузия и Молдова.
В Беловежских документах констатировалось, что СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Дальше отмечалось, что на территориях подписавших его государств не допускается применение норм других государств, в том числе бывшего Союза ССР, а деятельность его органов власти прекращается. Три республики провозгласили неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, гарантировали открытость границ и свободу передвижения граждан. Стороны на тот момент решили сохранить объединенное командование единым военно-стратегическим пространством, включая единый контроль над ядерным оружием, и др.
Все же главное, чего достигли лидеры трех республик, – разрушение, а точнее последний толчок падавшему имперскому монстру СССР. Они конституировали независимость своих государств от рухнувшего центра. Государственную независимость обрели и другие союзные республики.
Итак, в результате распада СССР Кыргызстан обрел государственную независимость. Но эта независимость породила множество сложнейших проблем политического, экономического, социального, гуманитарного характера. Решать их призвано было прежде всего государство как ядро и наиболее активный элемент политической системы, обладающий властью и необходимыми ресурсами. Такое государство предстояло создать в процессе трансформации всего общества и его политической системы.
2.3. Особенности переходного периода в Кыргызстане
Независимость Кыргызстана была обретена в условиях глубокого политического, экономического, социального кризиса. Этот кризис усложнял внутриполитическую обстановку, обострял борьбу между различными противоборствующими силами. Президент А. Акаев говорил в обращении к народу в связи с третьей годовщиной независимости: «Мне трудно назвать страну, которая начала свое возрождение и восхождение к высотам мировой цивилизации, обеспечение достойной жизни каждого из своих сограждан в условиях худших, чем Кыргызстан. Разорванное на куски хозяйство, повсеместное производство товаров, не имеющих сбыта, крах партийно-государственной системы при отсутствии механизмов самоорганизации и самоуправления, несформировавшийся слой собственников, утраченная идеология, социальное иждивенчество во всем и везде, надежда не на себя, а на некую политическую фигуру, способную в одночасье решить все общественные проблемы, оппозиция курсу реформ столь же яростна, сколь и неконструктивна»[79].
Вместе с тем провозглашение независимости породило в сознании значительной части кыргызского общества радужные настроения. Многие полагали, что независимость чуть ли не автоматически принесет экономическое процветание и благополучие, политическую стабильность и спокойствие. Однако вскоре романтические надежды развеялись, осуществить быстрый и безболезненный прорыв в политической, экономической, социальной сферах не удалось. В то же время начатые реформы встретили упорное сопротивление со стороны прокоммунистического парламента, бывшей партийной и хозяйственной номенклатуры. К тому же они не дали, да и не могли дать, немедленного результата, их реализация требовала длительных, упорных и настойчивых усилий в рамках определенного переходного периода. Полученные независимым Кыргызстаном в наследие от советского строя политические структуры были неспособны реализовать программу реформ, а сложившаяся в годы советской власти политическая система стала тормозом назревших преобразований.
Поэтому первоочередной задачей, вставшей перед независимой республикой, было трансформирование политической системы, в частности создание таких государственных структур, которые могли проводить политику, вытекающую из факта независимости, задач радикального преобразования всех сфер общественной жизни.
Процесс трансформации в Кыргызстане осуществлялся сверху. Ввиду несформированности гражданского общества проводимые реформы не воспринимались как собственное дело людей, ответственность за них перекладывалась на государство – только оно обладало властью и необходимыми ресурсами. Однако единства в высших эшелонах государственной власти не существовало, их взаимоотношения с самого начала были обозначены острыми противоречиями, знаменовавшими разные, подчас диаметрально противоположные, подходы к решению назревших задач.



