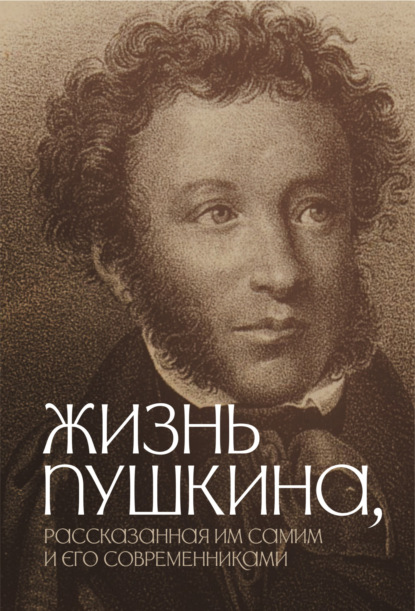
Полная версия:
Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками
Итак, родители уехали в Михайловское, впервые разлучась с дочерью. И переписка началась. К сожалению, из писем 1828 г. к Слонимской попало только одно – от 5 сентября, но и в нем видна атмосфера быта старших Пушкиных – в это время они при кажущейся светскости уже жили прежде всего интересами своих детей. Сергей Львович пишет: «Дорогая Олинька! ‹…› Вчера только после обеда воротились (из поездки в гости в Новоржев. – В. К.) и находимся в величайшем затруднении. Все это общество, числом 12 человек, напросилось завтра, в четверг, приехать в Михайловское. Можешь вообразить, что у нас голова идет кругом от забот об их размещении и пропитании. Они все будут вповалку, а мы переселимся в баню, которая разваливается. Но что поделать. Так они пожелали, и мы предупредили их обо всех неудобствах. ‹…› Судя по письму Александра, война эта становится весьма серьезной … Поцелуй от меня Александра, на этот раз ему не отвечаю, но не замедлю того сделать. Скажи ему, что у нас будет завтра некая маленькая баронесса Н., которая восхитительно поет его цыганский романс «Жги меня» и т. д., все это семейство в восторге от его таланта, все знают его вещи наизусть, вплоть до четырехлетнего мальчугана, который пришел ко мне просить его стихов». Как правило, родители Пушкина писали к дочери вместе: основную часть письма один из них, небольшое дополнение – другой. И в данном случае есть приписка Надежды Осиповны: «Надеюсь, что это письмо застанет тебя в полном здравии. Я жду Александра с нетерпением; не имею времени написать побольше – приготовляю на завтра, что могу, к приему всего этого общества; послезавтра мы совершим паломничество в Святые горы: с нашими гостями нас будет 14 человек, мы пойдем пешком, если погода будет такая же хорошая, как нынче. ‹…› Благодарю Николая Ивановича за память».[8][9][10]
Достаточно даже этого, единственного за 1828 год письма, чтобы бросились в глаза очевидные вещи. Старики Пушкины любили всех троих детей, тревожились за них и ждали встречи (поездка Пушкина в Михайловское в 1828 г. так и не состоялась); Сергей Львович давно – по крайней мере в 1828 г. это было уже так – гордился сыном-поэтом, не только не отвергая его в сердце своем, но надеясь на сближение; Александр Сергеевич не забывал стариков – он нередко писал им первый и, как видим, иногда даже не получал ответа. Но пойдем далее.
1829В этом году Пушкины-старшие жили в Петербурге до 20-х чисел июня. Ольга Сергеевна находилась на даче в Ораниенбауме. С конца июня переписка продолжалась уже из псковской деревни, откуда они не выезжали до октября. Пушкин все лето провел на Кавказе и воротился в Петербург позже родителей – в начале ноября.
Первое письмо за этот год (не датированное) – из Петербурга. Сергей Львович: «Надеюсь и молю бога, чтобы пребывание в Ораниенбауме было тебе благоприятно… Судя по твоему описанию, Ораниенбаум понравился бы мне чрезвычайно. Это совсем деревня, и местоположение его должно быть превосходно. Близость моря, наверно, восхитительна. Была ли у вас вчера гроза, как у нас? В момент, когда мама писала тебе, молния ударила в Чернышев мост. Мы все перепугались, даже Руслан, т. е. шотландский колли – (помните стихи? – В. К.). ‹…› Судя по газетам, Леон в Архалаке. Не думаю, чтоб Александр добрался туда, и жду его письма с большим нетерпением».
Неизвестно, дождался ли Сергей Львович письма от старшего сына – до нас оно во всяком случае не дошло. Приведем несколько строк из письма Надежды Осиповны (тоже еще петербургского), показывающего ее характер в истинном свете: «… я скорей хочу узнать, как твоя спина? Хоть опасности нет никакой, меня огорчает, что ты страдаешь. ‹…› Не надо этого приписывать ни пятнице, ни разбитому зеркалу, ни тому злополучному воробью, который явился искать у тебя убежища, а твоей неосторожности, мой добрый друг» Дело в том, что сестра поэта была очень суеверна; известно, что приметы играли определенную роль и в его настроении. Как видим, это шло не от матери. 22 июня Сергей Львович вторит жене: «У нас нет вестей ни от Александра, ни от Леона. Мы не преминули бы тебе их сообщить. Да ниспошлет тебе господь свои благословенья и да будет мне дано увидеть тебя совершенно выздоровевшей. Я молю его лишь о всех вас, друзья мои, ибо ваше счастье и ваше спокойствие мне гораздо ближе, нежели мое собственное». Как ни относить излияния отца на счет его сентиментальности, но все же письма ни для кого, кроме дочери, не предназначались и заслуживают доверия.
29 июня старики добрались до Тригорского. В то лето они жили именно там: владелица Тригорского П. А. Осипова отсутствовала, а дом Пушкиных в Михайловском капитально ремонтировался. Всегдашняя суматошность и забывчивость Пушкиных проявилась уже в дороге. «Наше путешествие было вполне счастливо, – не без юмора пишет Надежда Осиповна, – исключая нескольких неприятностей: сначала мы забыли свою подорожную на третьей станции, что нас задержало на несколько часов; Маша (горничная) забыла в Петербурге мои туфли; она потеряла мои ночные чепцы; папа потерял свой лорнет, но, несмотря на все эти неприятности, я была в восторге, что нахожусь за городом и дышу свежим воздухом, и это помогло мне терпеливо перенесть все докуки. ‹…› С нетерпением жду вестей от твоих братьев; вдали от всех вас, мои дети, письма составили бы мое утешение, и вот я лишена и этого счастья». Почта действительно ходила скверно, особенно осенью. Но Ольга Сергеевна писала очень часто, и вести от нее добирались до Тригорского. Обоим же сыновьям не всегда было до родителей…
5 июля Надежда Осиповна рассказывает: «Я много гуляю, два раза ходила пешком в Михайловское, где весь день мы провели в саду, который все разрастается и украшается, ты прямо не имеешь представления, как он хорош; дом ‹…› будет кончен через четыре недели, но я тому не верю, впрочем, я могу потерпеть, мне так хорошо в Тригорске; а если б я почаще имела вести от твоих братьев и от тебя, то могла бы быть спокойна». Сергей Львович немножко брюзжит и проявляет «михайловский патриотизм», но в целом тоже настроен благодушно: «Не знаю, так ли вы страдаете от жары, как мы, я полагаю, что на берегу моря воздух посвежее – здесь есть часы невыносимые. Это не мешает мне два раза в день ездить в Михайловское. Я никогда так не чувствовал, насколько наша деревня лучше для прогулок, нежели Тригорское, как с тех пор, что я живу в последнем. Ходить нет никакой возможности и ни в какое время дня. Везде солнце и трава, или надо взбираться на горы. Да я их и люблю, но здесь им нет конца. Надеюсь, что в нашем доме можно будет жить. Он останется почти совсем как был, не считая кое-каких лишних украшений, которые придадут ему более приятную внешность. У него была изрядно потрепанная физиономия ‹…› Если узнаешь что-либо о своих братьях прежде нас, поделись с нами вестью. Вероятно, до вас больше доходит новостей. Здесь я не знаю ничего, и у нас нет и обрывка какой-либо газеты».
Быть может, некоторым читателям покажутся излишними бытовые детали, приводимые нами в этих выдержках из писем. Но ведь речь идет о пушкинском времени; пушкинских местах; самых близких Пушкину людях. И потом – именно из этих мелочей возникает истинный облик родителей поэта, до известной степени разрушая стереотип, созданный и воспринятый нами всеми коллективно…
16 июля мать признается дочери: «Сердце мое всегда с тобою, во весь день я только и думаю, что о тебе и твоих братьях, мое воображение переносит меня к вам, мои дети; но мне легче полететь мыслью в Ораниенбаум, благодаря подробностям, которые ты мне сообщаешь; возле же Леона я вижу одни только опасности, тогда как он, быть может, благодушествует. Что до Александра, то не знаю, где его и искать…» Однако к этому времени первые новости о сыновьях дошли до отца: «Мой брат пишет мне из Москвы, что ему говорили, будто Александр с ним (Львом) у Раевского». Родительские тревоги, в общем, были не напрасны – оба брата находились «в горячем деле» и подвергались серьезной опасности. Но не забудем, что Пушкин уехал на Кавказ без разрешения властей и находился там под тайным, но ему-то хорошо известным надзором. Он вообще тогда почти не писал в Россию. 12 августа Сергей Львович по-прежнему питался слухами: «Все эти победы прекрасны. Я был преисполнен радостью, но теперь не думаю ни о чем и не желаю ничего, кроме строчки от Леона и Александра, и не успокоюсь, пока их не получу. Мы не греки и не римляне, как говорит где-то г-н Карамзин, кажется, в Илье Муромце, и я должен быть уверен в здоровье моих детей».[11]
Порою Сергей Львович сталкивался с народной славой старшего сына самым неожиданным образом. Побывали они, например, у соседей и вот что там услышали: «У барышень Тимофеевых есть нечто вроде горничной, она дочь пастуха (не Аркадского), но пастуха Опочецкого уезда, который пасет свиней. Ей лет 14 или 15, толстая коротышка, плечи вздернутые, спина квадратная, а физиономия дикая, как у всех девок, делающих грубую работу. Она знает наизусть почти весь Бахчисарайский фонтан и читает стихи Александра, жестикулируя при этом самым комическим образом. Сложенная, как я тебе говорю, она произносит отрывок из Онегина, где он говорит об Истоминой, и бьет нога об ногу, но ноги в пол-аршина в длину и столько же в ширину. Можешь вообразить, что это такое». Сергей Львович ничего не понял и грубовато посмеялся, но случай, им рассказанный, примечателен.
22 августа у Пушкиных был радостный день. Надежда Осиповна: «Наконец-то кончились мои тревоги о твоих братьях… мы только что получили письмо от Александра, список с коего тебе посылаю; я не могу расстаться с оригиналом – слишком счастлива его иметь. ‹…› Это барон Дельвиг переслал нам его письмо – оно преисполнило нас восторгом. Можешь вообразить, каково было наше счастье, когда мы его читали. Думаю, что никто из находившихся под Арзерумом, когда он пал, не мог испытывать большего удовлетворения». Даже погода улыбалась в те дни счастливым родителям: «Вчера было хорошо, как в разгаре лета, мы весь день с 10 часов утра до 8 провели в саду Михайловского; сегодня ветер, но не холодно; плодов у нас изобилие, зачем не могу я разделить их с тобой, мой добрый друг; вишни полезны, много у нас и белых слив – больше, чем в Тригорске». Сергей Львович дополняет рассказ жены некоторыми подробностями, особенно для нас важными, поскольку письмо Пушкина (или пи́сьма?), о котором идет речь, не сохранилось: «Александр очень весел, и хотя Леон нам не пишет, но из содержания письма Александра ты узнаешь, что он здоров и думает приехать к нам. Итак, все мы соединимся, дорогая Олинька! ‹…› Увидя вас всех троих разом, я распрыгаюсь от радости. Александр, видимо, в восторге от своего путешествия. Он пишет Плетневу и дает ему подробную картину своего образа жизни в лагере. Он ездит на казацкой лошади с нагайкой в руке, а самое лучшее из всего этого – это то, что рассчитывает вскоре воротиться».
Какой малый след, выходит, оставила ссора 1824 г. в сердце родителей Пушкина! Как они его, брата и сестру ждали, любили, не теряя надежды собрать их всех под крышей обновленного дома в Михайловском! Это не сбылось. Но все они еще увидались друг с другом в Петербурге. 1 октября Надежда Осиповна уже горит нетерпением: «Тороплюсь, мой друг, послать тебе список еще с одного письма Александра, которое мы получили вчера. Как мне не терпится уехать отсюда, я думаю, твои братья будут скоро в Петербурге. Я так буду счастлива обнять вас всех троих сразу, дорогие мои дети!» Но денег на дорогу не было – болдинские доходы, пересылавшиеся через банк в Петербург, неведомо насколько задерживались.
1830В октябре – ноябре 1829 г. в Петербурге свиделись родители, дочь и старший сын, а к рождеству прибыл и долгожданный Лев Сергеевич. Весь 1830 год, один из самых напряженных в жизни Пушкина (см. гл. XI), родители провели рядом с дочерью. Письма понадобились только в июле, когда они «поменялись ролями» – Ольга Сергеевна жила в Михайловском, а старшие – в Петербурге. 19 июля Надежда Осиповна сообщает: «Александра еще здесь нет… он в больших хлопотах (связанных с предстоящей женитьбой. – В. К.), ожидать его надо всякую минуту». Мать угадала точно – Пушкин приехал в тот самый день, когда писалось это письмо, 22 июля Надежда Осиповна пишет дочери снова: «Александр наконец с нами – с того самого дня, как я писала тебе первое мое письмо; он приехал спустя несколько часов, как оно тебе было отослано. ‹…› Свадьба состоится не ранее сентября месяца, я почти не имела времени поговорить об этом с Александром. ‹…› Он очарован своей Натали и говорит о ней, как о божестве. Он думает приехать с ней в Петербург в октябре месяце». Дальше следует уже известное читателю сообщение о сентиментальном путешествии Пушкина в Захарово. Сергей Львович, как всегда, не упускает подробностей: «Александр приехал в субботу. Он нашел меня сидящим на скамье на Невской Перспективе близ библиотеки. Он только что сошел с коляски и пешком направлялся к нам. И вот мы, обнимаясь, жестикулируя, беседуя, рука об руку идем к нам. Мама, воротившись домой, очень была удивлена, вдруг его увидав». Не нужно слишком вглядываться в письмо, чтобы рассмотреть это гордое «рука об руку»: Сергея Львовича переполняло отцовское тщеславие. Но не сродни ли оно родительской любви?.. Да и вообще в этот момент казалось, что отношения изменились навсегда: отцовская скупость дала трещину. Вспомним письмо Пушкина Плетневу 26 марта 1831 г. (гл. XII). В глазах же родителей сын становился теперь другим: остепенившимся, вставшим на ноги семейным человеком. Наконец, последнее письмо матери за 1830 год (25 июля) заканчивается словами: «Твой брат тебя целует». Похоже, что они виделись в Петербурге всякий день.
1831В том году создались совершенно особые условия, вызвавшие новый поток писем родителей. Свирепствовала холера. С конца февраля Ольга Сергеевна жила совсем одна – Н. И. Павлищев, по ходатайству Сергея Львовича перед старыми знакомыми, получил службу в Варшаве. Надежда Осиповна и Сергей Львович были на даче в Павловске. «Мои родители, – пишет Ольга Сергеевна мужу 3 июля, – узнав про холеру, уложили пожитки, собрались и выехали отсюда менее чем в 24 часа. Я хотела через два дня присоединиться к ним в Царском, но на другой день после их отъезда город был оцеплен со всех сторон, а карантин поставлен в Пулкове». Ольга Сергеевна попыталась переехать в Царское Село, где жили молодожены Александр Сергеевич с Натальей Николаевной, но ее и туда не выпустили.
С сыном и невесткой родители видеться могли, а с дочерью – нет. Оставалось лишь получать проколотые из предосторожности депеши. Нет худа без добра: в письмах собраны сведения об Александре Сергеевиче, снова подтверждающие весьма относительную отдаленность женатого Пушкина от родителей и опровергающие анекдот Вяземского насчет «сна».
«Вчера я провела свой день рождения у Александра, – сообщает Надежда Осиповна 22 июня, – не имея возможности принять их у нас, ибо мы перебрались лишь за сутки перед тем». Сергей Львович: «Здесь, ‹…› на мой взгляд, лучше, чем в Царском Селе. Не так великолепно, но куда более по-сельски. Мы окружены местами для прогулок, не только по саду, но и по лесу, который на дороге отсюда в Царское. Все это очень утешило бы меня, что я не в деревне, но тебя мне недостает. ‹…› Натали была бы в восторге, если бы ты была у нее и с ней, как и Александр. Я передал ему твое письмо. Он хотел тебе ответить, но сообщение с Петербургом оказалось на несколько дней прерванным».
25 июля мать пишет: «Мы видаемся с Александром и Натали, Царское не оцеплено, ниже́ Сад; но, как ни у нас, ни у твоего брата нет лошадей и найти их невозможно, то мы и не видаемся так часто, как бы хотели. ‹…› Александр часто делает этот конец, жена его плохой пешеход, она гуляет лишь по саду». В последнем июльском письме Надежда Осиповна снова упоминает о встречах с сыном: «Надеюсь, ты, как и я, пользуешься хорошей погодой, – я неутомима. Вчера ходила все утро, и с 5 часов после обеда и до 8 мы ‹…› катались в линее по парку Павловского и в Царском Селе, где ежедневно собираются слушать музыку. Там мы встретили Александра и его жену. ‹…› Сегодня они у нас обедают».
В том же письме Надежда Осиповна рассказывает лестную для родителей новость «Император и императрица встретили Натали с Александром, они остановились поговорить с ними и императрица сказала Натали, что она очень рада с нею познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем того не желая, появляться при дворе». Не будем требовать от Надежды Осиповны предвидения истинного значения этой встречи и тем более ее последствий. Она искренне радуется и гордится невесткой. Иное дело Ольга Сергеевна – у нее был трезвый ум и понимание обстановки. Она писала мужу в августе того же года. «Моя невестка очаровательна; ‹…› все Царское ею восторгается, императрица хочет, чтобы она появилась при дворе, а она от этого в отчаянии, потому что она совсем не глупа; я не то хотела сказать: хотя она совсем не глупа, но она еще несколько застенчива, но это пройдет – и она поладит со двором и с императрицей». Пушкины-родители этих теневых сторон жизни поэта не видели…
Все шло хорошо, однако финансовые обстоятельства Сергея Львовича были вовсе не таковы, чтобы он мог беспечно проводить время. «Управитель осаждает меня письмами из Нижнего, – жаловался он Льву Сергеевичу, – этот господин мне поет, что распрощусь с имением, если не внесу уплату в самом скором времени в Опекунский совет». «Отец мой в весьма стесненных обстоятельствах, – подтверждает дочь, – ему затеряли, как говорит управитель, 4000 оброка, которые он ожидал». К тому времени владелец Болдина был должен казне 175 000! Но и долговые проценты платить было нечем. В другом, более позднем (1835 г.) письме Ольги Сергеевны к мужу еще более мрачная оценка материальных дел отца: «Вообрази, ‹…› имение Болдино описывали пять раз. ‹…› Можешь себе представить, в каком состоянии находится отец со своими черными мыслями, да к тому же и денег нет. Он хуже женщины; вместо того, чтобы прийти в движение, действовать, он довольствуется тем, что плачет. Не знаю, право, что делать – я отдала все, что могла, но это все равно, что ничего – из-за общих порядков дома. ‹…› Мой отец только и делает, что плачет, вздыхает и жалуется встречному и поперечному. Когда у него просят денег на дрова и сахар, он ударяет себя по лбу и восклицает: «Что вы ко мне приступаете? Я несчастный человек!» В 1831 г. из Болдина прислали всего 3600 рублей. И на них надо было как-то крутиться. На зиму 1831–1832 гг. был снят довольно дорогой дом у Синего моста. Хозяйственное «недеяние» Сергея Львовича в самом деле не знало границ.
1832До июля 1832 г. родители прожили вместе с дочерью в Петербурге – писем за этот период нет. Между тем Пушкиных ждало новое испытание – дочь их решилась отправиться вслед за мужем в Варшаву. Разлука предстояла долгая. «Отец обливает меня слезами, – писала она. – Мать твердит, что не может привыкнуть к моему решению жить с тобой… Сцен было много». Погостив недолго в Михайловском, в начале октября Ольга Сергеевна уехала. «Никогда не были мы так одиноки», – писала Надежда Осиповна 17 октября. Единственное, что их утешало: Лев Сергеевич также нес службу в Польше и оказался, как они надеялись, «под присмотром» старшей сестры. «Я очень и очень счастлив, что ты доехала благополучно, – писал отец, – квартира же твоя, судя по плану, который ты нам послала, так удобна, что я никогда не пожелал бы иметь более обширную. Странно было бы, если бы по воле случая ты жила в той, которую я занимал 18 лет назад. ‹…› Я вижу вас отсюда, мои дорогие дети, и как бы участвую в вашем разговоре и нахожусь втроем с тобой и Леоном. Правда, я точно присутствовал при вашей встрече, так живо я себе ее представляю. Подробности, какие нам даешь о волокитствах Леона, заставили меня улыбнуться». Теперь они адресовали письма обоим детям вместе.
Надежда Осиповна особенно скучала по дочери: «Скоро будет день твоего рождения (20 декабря), первый, который я проведу вдали от тебя! Что делать, надо покориться этой тягостной разлуке. Да будет этот день, как и все дни твоей жизни, таким для тебя счастливым, как я того желаю. ‹…› Мне кажется, моя судьба всегда быть вдали от моих детей. Папа опять страдает своим кашлем, вчера он едва не задохнулся; надеюсь, что путешествие и воздух будут ему благоприятны, он привык ходить, здесь это для него невозможно с той поры, как снег до колен». И в другом письме: «… единственное для него лекарство – это получать от вас вести и писать вам – вот когда он чувствует облегчение». Тут же (9 декабря) приписка Сергея Львовича младшему сыну: «Спешу, дорогой Леон, сказать тебе, что нет ничего, что я бы не сделал, ни хлопот, ни шагов, перед которыми бы я остановился, дабы сколько для меня возможно более и скорее облегчить твои затруднения; не смею безусловно назначить сумму, какую я тебе вышлю, не зная ее сам, но можешь быть уверен, что я откажу себе во всем вплоть до самого необходимого. В настоящее время у меня деньги ровно на подставы до Москвы. Мои доходы сюда не поступают…» Намерения Сергея Львовича были искренние – он очень любил младшего сына (деньги были нужны на уплату его катастрофических долгов), но сетования и жалобы мало помогали.
Оставшуюся часть зимы 1832–1833 гг. старшие Пушкины действительно провели в Москве. Сергей Львович хотел повидаться с сестрой Елизаветой Михайловной Сонцовой и ее семейством. В Москве он не был давно: даже на похороны старшего брата не попал – Василия Львовича хоронили в августе 1830 г. Александр и Лев… Поздравительное письмо от 19–20 декабря, отправленное Ольге Сергеевне уже из Москвы, полно сведений о родственниках и давних знакомых. Светская и театральная жизнь Москвы как-то привычнее для четы Пушкиных, чем петербургская. Сергей Львович рассказывает: «Позавчера был я первый раз на французском спектакле московском. Давали три водевиля и играли достаточно плохо, чтоб не сказать более». Возобновились старые знакомства. Побывал у Пушкиных гостивший в Москве лицейский товарищ Александра Иван Малиновский; узнали с грустью о кончине в Сибири своей дальней родственницы, жены декабриста Александры Григорьевны Муравьевой…
Лев Пушкин между тем в Варшаве был «выключен» из полка за дисциплинарные упущения. Сергей Львович хлопотал о его почетной отставке, новой службе, а главное – о деньгах, которые помогли бы любимцу родителей расплатиться с долгами и вырваться из Польши. Надежда Осиповна обожала Льва тем сильнее, чем больше он грешил: «я чувствую, что больше не смогу выносить твоего отсутствия, я нуждаюсь в тебе как в воздухе, которым дышу; надеюсь на милость господню, несомненно мы еще увидимся, и, быть может, раньше, чем я думаю. Пока что пиши нам, мой добрый друг, не лишай меня этого утешения. Я только и делаю, что читаю и перечитываю твои письма». После этого объяснения в страстной материнской любви следует пассаж, резко отличающийся от предыдущего скороговоркой и даже холодностью: «Александр болен, маленькая тоже, Натали брюхата». Но ни болезнь старшего сына и малютки (которую старики еще не видели), ни новая беременность невестки не волновали родителей до такой степени, как разлука со Львом и его долги. Здесь – сильный аргумент в пользу тех, кто считает, что поэт был сыном нелюбимым. Однако отчуждение обычно бывает взаимным…
1833Новый год начался, пожалуй, все с той же ноты отчуждения и внутренней отдаленности от старшего сына. Правда, это больше относится к обидчивому отцу, чем к матери, с живым интересом ловившей сведения о сыне, пусть не из собственных его уст. Особенно приятно было ей получить письмо невестки. 16 марта Надежда Осиповна – Ольге: «Ежели ничего не знаешь об Александре, то скажу тебе, что они все трое здоровы; в Петербурге, как и здесь, все болели гриппою, которую прозвали внучатой племянницей холеры. Натали первую неделю поста больная пролежала в постели, ей тоже бросали кровь, но на масляной и всю зиму она много веселилась, на Балу уделов она появилась в костюме жрицы солнца и имела успех. Император и императрица подошли к ней, похвалили ее костюм, и император объявил ее царицей бала. Натали подробно нам о том писала». Темы бесед, письменных и устных, Натальи Николаевны со свекровью из этого более или менее вырисовываются.
Сергей Львович пишет в другом тоне: «Александр на протяжении 11 месяцев написал мне два раза и не ответил на 4 или 5 писем, которые я послал ему с мая. Не думаю, чтобы он был в восторге вновь нас увидеть». Будь воля Сергея Львовича, они бы вообще в Петербург повидаться с сыном, невесткой и внучкой не поехали, а покатили бы из Москвы прямо в Михайловское. «Признаюсь вам, – писал отец детям в Варшаву, – что если б была у нас коляска, которая перенесла бы нас прямо в Михайловское и если б не было у меня этих несчастных дел с Опекунским советом, я не хотел бы возвращаться в Петербург: я буду там одинок более, чем когда-либо, не имея вас с нами». Старший сын не слишком принимался в расчет, а в Опекунском совете надо было добыть денег под новые бесконечные залоги и перезалоги болдинских крестьянских душ.[12]



