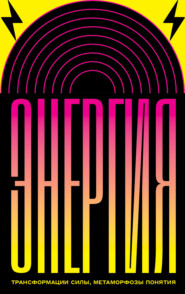
Полная версия:
Энергия. Трансформации силы, метаморфозы понятия
В эстетической дискуссии понятие «вибрация» начинает приобретать около 1910 года все больше смысловых оттенков: Кандинский использует учение о вибрации, позаимствованное из несколько хаотичного фонда теософии, чтобы подвести базу под беспредметную живопись, которая имела огромное значение для развития искусства ХХ века. В то же самое время футуристы помещают это понятие в иное силовое поле; оно приобретает не метафизическое, а цивилизационное, прежде всего, технологическое измерение: «Все движется, все кружится; все развивается с огромной скоростью!»301 Электричество, рентгеновские лучи и синхронное движение всех вещей «преодолевают материальность тел». Образ современного мира запечатлевается при помощи хронофотографий и таких новаторских художественных приемов, как дивизионизм и кубизм. Названия картин, такие как «Мятеж в галерее», «Эластичность» или «Мчащийся автомобиль», также дают представление о способе видения футуристов, для которых мир твердых тел перешел от застывшего состояния к динамике «универсальной вибрации».
Фигура никогда не стоит перед нами в стабильной неподвижности, она появляется и исчезает, появляется и исчезает, и из‐за постоянного присутствия вещей на сетчатке наших глаз вещи множатся, деформируются, следуют друг за другом, подобно вибрациям в пространстве. Так, у скачущей галопом лошади не четыре ноги, а двадцать, и движения их треугольны. В искусстве все основано на некоем соглашении, и вчерашние истины являются для нас ничем иным, как ложью!
<…>
Пространства больше не существует: мокрая от дождя улица, освещенная электрическими фонарями, кажется нам погруженной в недра земли. Конечно, Солнце отделяют от нас тысячи километров, но разве дом, стоящий перед нами, не представляется нам в огранке солнечного диска? Кто поверит в непроницаемость тел в то время, когда наши чрезвычайно обостренные чувства позволяют нам угадывать таинственные проявления спиритизма? Почему нужно продолжать творить, не доверяя нашей визионерской силе, которая может дать такие же результаты, как рентгеновские лучи?
<…>
Человеческая боль представляет для нас, художников, такой же интерес, как боль электрической лампочки, которая страдает от ударов тока и мучается, и кричит посредством использованной в ней цветовой гаммы, а музыкальность линий и складок какого-нибудь современного предмета одежды обладает для нас не меньшим эмоциональным излучением и символическим значением, чем обнаженная статуя античности. Милан, 11 апреля 1910 г.
Умберто Боччони (Милан); Карло Дальмаццо Карра (Милан); Луиджи Руссоло (Милан); Джакомо Балла (Рим); Джино Северини (Париж). Из «Технического манифеста художников-футуристов»После Первой мировой войны в Москве появился объект, который, как никакой другой, просто и доходчиво воплощал в искусстве феномен вибрации как таковой: «Кинетическая конструкция (стоящая волна)», созданная в 1920 году Наумом Габо. Стоит отметить две предпосылки создания этого произведения: электричество и революционную ситуацию в СССР. Оба эти фактора определяют эстетику времени: электричество воспринимается как революционная движущая сила, с помощью которой необходимо совершить переворот косных общественных отношений. «Наш путь», – пишет Дзига Вертов в своем Манифесте, – лежит «от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку… Новый человек, освобожденный от грузности и неуклюжести»302.
Истоки художественного творчества Габо связаны не только с футуризмом, но и, прежде всего, с кубизмом. Наиболее отчетливо тенденции кубизма проявились в его «Конструктивной голове № 2» 1916 года: форма головы полностью сливается со структурой пчелиных сотов, пространство не заполнено и не замкнуто со всех сторон, а сформировано плоскими сегментами, открытыми наружу ячейками. Произведение Габо оказывается более радикальным, чем «Голова женщины» Пикассо, созданная в 1909 году, поскольку у Пикассо, несмотря на формальные новшества, еще сохранена замкнутая поверхность. Оно также превосходит своим радикализмом «Голову» Александра Архипенко 1913 года, которая, несмотря на сходную композицию, выглядит массивной по сравнению с «тонкостенной, как мембраны» «Головой № 2» Габо303.
В 1920‐х годах Габо переехал на Запад, с середины 1930‐х годов его уже в ином ракурсе занимает соотношение плоскости и пространства: в связи с математическими моделями, которые стали известны в художественных кругах благодаря публикации фотографий Ман Рэя304. В нескольких работах Габо представляет бесконечный сферический континуум («Сферическая тема»), в этих работах он отказывается не только от замкнутого пространства и тем самым от различия между внутренним и внешним, но и от непроницаемой плоскости, которую он в некоторых произведениях заменяет линиями, выцарапанными на стекле, в других, более поздних объектах («Линейная конструкция в пространстве 1 и 2»), – замысловато протянутыми нейлоновыми нитями.
Его художественная практика характеризуется отказом от передачи массы тел, а впоследствии – под влиянием математики – также от передачи объема. Налицо тенденция к дематериализации. В «Кинетической конструкции (стоящей волне)» 1920 года Габо вышел за рамки своих предыдущих и последующих эстетических поисков, добавив один прием: воздействие скульптуры оказывается здесь независимым от материального тела, оно происходит благодаря движению, то есть энергии. Стальной стержень, приводимый в вибрирующее движение электромотором, создает стоящую волну. Под волной в физике понимают изменение физической величины, периодически распространяющееся из центра возбуждения в определенном направлении. Таким образом, величина в пространственно-временном отношении совершает колебания. Благодаря наложению друг на друга двух одинаковых, противоположно направленных волн образуется стоящая волна с участками максимального колебания, неподвижными в пространстве, и подобными же местами длительного покоя. Габо особенно занимал тот факт, что «при рассмотрении стоящей волны образ становится трехмерным»305. Почти девять месяцев продолжались эксперименты, пока не была создана «Кинетическая конструкция». Она отвечает требованиям, выдвинутым в «Реалистическом манифесте», написанном в то же время: это освобожденный от массы, в данном случае кинетически созданный объем – имматериальная скульптура, порожденная вибрациями, в форме стоящей волны.
Габо делает саму кинетическую энергию произведением искусства, лишь она позволяет возникнуть образу. Значение же психической энергии, которая аккумулируется в произведениях искусства и действие которой исходит от них, исследовал современник Габо – Аби Варбург, создавший теорию социальной памяти. При ее изложении он обращается – по причинам, о которых еще пойдет речь, – к терминологии, явно позаимствованной из области электротехники.
Противоположностью такого физического подхода к изложению, которое оперирует понятиями «волна» и «колебание», выступают соответствующие биологически обусловленные теории памяти, заявившие о себе в XIX веке и имевшие фатальные последствия в ХХ веке, когда они послужили базой расистских идей, например представлений о расовой памяти. Подобные теории основаны на эссенциалистских представлениях о крови, наследственности и т. д. Их влияние ощутимо также в работах Варбурга рубежа XIX–ХХ веков306.
Однако впоследствии важным источником развития теории социальной памяти стала для Варбурга книга Рихарда Земона «Мнем как принцип сохранения в смене органических процессов», которую он приобрел в 1908 году. Для Земона память является качеством, отделяющим живую материю от мертвой. Память обозначает при этом способность реагировать на событие некоторое время спустя, таким образом, речь идет о накоплении и переносе энергии. Каждое событие, которое воздействует на память, то есть на живую материю, оставляет в ней свой след. Такой след Земон называет энграммой. Сохраняемый в ней энергетический потенциал может в определенной ситуации быть реактивирован и разряжен, и это происходит у индивида или у биологического рода в процессе воспоминания307.
Подобные естественно-научные теории в гуманитарных науках основаны на принципах ассоциативной психологии, а именно на предположении, что ум является tabula rasa до тех пор, пока он не воспринимает ощущения, поступающие от органов чувств. На рубеже веков Карл Лампрехт создал на базе такого подчеркнуто антиметафизического подхода социальную психологию. Впечатление, сообщаемое органами чувств, оставляет в сознании некий осадок, который соединяется с другими осадками, образуя представления; только представления, обладающие большей, по сравнению с другими, интенсивностью, могут посредством ассоциативной цепочки проникнуть в сознание. Эта теория оставила след еще в терминологии ранних работ Фрейда, в таких понятиях, как вытеснение, катексис (Besetzung), то есть наполнение определенного представления энергией, или комплекс. Лампрехт объясняет социальные перемены притоком новых раздражителей, порожденных экономическим или политическим развитием, они диссоциируют старые ассоциативные комплексы, пока не образуется новая доминанта. Подобное расширение представлений о феномене сознания, диапазоне функций души характерно для переходных эпох, когда психическая динамика исключительно хорошо поддается исследованию308. Социальная психология Лампрехта и образует наряду с теорией Земона тот контекст, в котором сформировалась историческая психология Варбурга. Временем ее создания были, прежде всего, 1920‐е годы309.
Искусство является «социальным органом воспоминания», задача «социальной памяти» – «все новое и новое соприкосновение с памятниками прошлого»310. Но такое воспоминание является не почтительным цитированием архивного материала, а динамичным процессом, ход и последствия которого непредсказуемы. Так, например, в истории культуры символ функционирует как энграмма; помимо этого, Варбург упоминает «энергетические консервы» и создает термин производный от энграммы – «динамограмма». Таковыми являются, например, приемы античной скульптуры, воплощения энергетических воздействий311. Но эти энергии не открыты для свободного доступа и распоряжения ими, они дошли до нас запечатленными в определенной форме. Процесс их активации Варбург описывает как электрический феномен, энграммы – как непомеченные лейденские банки. «Нейтральный» заряд «поляризуется» при соприкосновении с «селективной волей времени», порождая одну из возможных интерпретаций. Процесс поляризации может подразумевать, как в случае с античной динамограммой, также возможность «радикального изменения (инверсии) исходного античного смысла»312.
Преимущества такого подхода обнаруживаются при сопоставлении его с другой моделью описания исторического процесса: подзаголовки знаменитых книг того времени, такие как «Распространение, расцвет и упадок» («Романтизм» Рикарды Хух) или «Очерки морфологии мировой истории» («Закат Европы» Освальда Шпенглера), сравнивают последовательность исторических событий с жизнью организма. Такой биологизм подразумевает неизменность устройства мира и необратимость процессов – они мыслятся как линеарные: что-то начинается и проходит свой путь до конца. Электродинамика, напротив, предлагает модель сцепления различных феноменов, разнородный обмен сохраненными в них энергиями, не соотнося их направления с определенными временными или жизненными осями. «Майкл Фарадей был бы лучшим наставником в деле изучения материальной культуры… чем Линней», подводит итог Джордж Кублер313.
На примере картины Мане «Завтрак на траве» Варбург иллюстрирует свою теорию трансформаций314. Двое мужчин в костюмах своего времени и обнаженная женщина воспроизводят группу речных богов с нимфой, изображенную на гравюре Раймонди «Суд Париса», воссоздающей композицию произведения Рафаэля. Эта композиция встречается, в свою очередь, уже на античных саркофагах, которые интересовали Варбурга как энграммы языческой страсти. Ему, однако, не столь важно проследить в веках определенную линию развития, его занимает обновление, преобразование мотива. Для этого необходимо было сначала расшифровать античный смысл: например, лежащую фигуру античного речного бога он трактовал как фобическую энграмму. При этом формы, передаваемые социальным мнемом, меняются; так Варбург обнаружил голландский вариант XVII века, на котором речные боги смотрят уже не на олимпийцев, а на стадо коров, таким образом, полная драматизма сцена превращена в пасторальную. Ее и подхватил Мане, наполнив новым, шокирующим современников содержанием.
Таким образом, исходная фобическая энграмма преобразована в революционную по тем временам картину, изображающую реальных людей, свободно живущих на лоне природы. Это был просветительский акт. «В, казалось бы, абсолютно незначительных отступлениях, в игре жестов и мимики и происходит энергетическое переодушевление человека. От ритуальных жестов страшащихся молнии низших природных демонов на античном рельефе благодаря итальянской гравюре совершается переход к осанке свободных людей, уверенно чувствующих себя в лучах света»315. Варбурга не интересуют вещи в их устоявшейся форме, его занимают преобразования тех энергий, которые некогда были воплощены в них, на протяжении истории цивилизации.
Дрожать – одно из любимейших времяпрепровождений Эдди. Не той дрожью, коей дрожат нормальные люди, мурашки, что вроде как строем прошлись по твоей могиле и пропали, но дрожью, которая не прекращается. Сначала трудно привыкнуть. Эдди – знаток тряски и трепета. Он даже умеет неким странным образом их читать, как Зойре Обломм читает косяки, а Миклош Танатц – рубцы. Но дар сей не ограничен дрожью Эдди – о нет, он читает и чужие дрожи! Ага, по одной входят и все вместе, группами (в последнее время Эдди отращивал у себя в мозгу нечто вроде дискриминатора – учился их сортировать). Самые неинтересные – дрожи, у которых совершенно постоянная частота, совсем без вариаций. За ними по интересности идут частотно-модулируемые – то чаще, то реже, зависит от поступающей с другого конца информации, где бы тот конец ни располагался. Затем нерегулярные – эти меняются как по частоте, так и по амплитуде. Их надлежит раскладывать в гармонический ряд Фурье, а это чуточку труднее. Часто задействуется кодирование, некие субгармоники, некие силовые уровни – чтоб разобраться, нужно кой-чего уметь.
Томас Пинчон. Радуга тяготения (Gravity’s rainbow). 1973 (пер. А. Грызуновой и М. Немцова)Художники и историки являются трансформаторами энергий, но они не только преобразуют, но и преобразуются сами. Варбург размышляет об этом процессе, сопоставляя двух выдающихся мыслителей: «Нам нужно признать, что и Буркхардт, и Ницше улавливают мнемические волны… Они оба – очень чувствительные сейсмографы, потрясаемые до основания, когда им приходится ловить волны и передавать их дальше. Но есть большая разница: Буркхардт улавливал волны, приходящие из области прошлого, он чувствовал опасные толчки и позаботился об укреплении основания сейсмографа. Он никогда не принял безоговорочно и до конца предельную степень колебаний, хотя мучительно испытывал ее на себе». Участвовать в колебаниях – необходимо, по мнению Варбурга, чтобы «вырвались на свет новые участки из-под засыпанного слоя позабытых фактов»316. Процесс познания, который Варбург определяет как электродинамический, всегда предполагает возможность возврата в состояние покоя. Ницше подверг себя, по мнению Варбурга, воздействию слишком сильных волн, и, принимая их, он обессилел, – тезис, который подразумевает необходимую связь между мышлением философа и его заболеванием. В результате превращения вещей в носителей энергий, а субъекта в приемник-трансформатор осталось только нечто вроде белого шума.
При рассмотрении феноменов вибраций и волн сложился своеобразный треугольник: Земон/Лампрехт, Кандинский и Варбург. На образование этой геометрической фигуры повлияли ассоциативная психология, теория художественного творчества и философия истории искусства. Процесс восприятия, организация материи и ход истории понимаются здесь как энергетический процесс, как постоянная трансформация данностей при отсутствии точки неподвижности. В интерпретации Варбурга Мане совершает в принципе то же, что и Кандинский: он подвергает себя воздействию мнемических волн, как Кандинский – действию воспринятых из теософии вибраций. Иными словами, Варбург трансформирует эстетическую установку Кандинского в модель описания исторических процессов.
Перевод с немецкого Александры ЕлисеевойСюзанна Штретлинг
Энергия языка/ медиальная энергия
Одна из самых значительных и теснейших связей энергетического и лингво-философского дискурсов представлена в термине «энергия языка». Он утверждает присутствие в слове действенной силы, выходящей за дискурсивные границы речевых пропозиций. Термин «энергия языка» предполагает наличие в языке силового, деятельного начала, ассоциируя его с некоей динамической сущностью языка. Лингвистика – в частности, ее прагматическая ветвь – знает и другие концепты, которые вращаются вокруг энергетического потенциала речи. Достаточно вспомнить, например, об «утвердительной силе» (behauptende Kraft) Готлоба Фреге или об «иллокутивной силе» (illocutionary force) Джона Остина. Но еще до того, как теория речевых актов зафиксировала в языке работу перформативных речевых действий за пределами утвердительного или номинативного высказывания, в более старом понятии «энергии языка» уже было заложено представление о возможности высвобождения в речи определенной силы. Тем не менее вопрос, как эта сила возникает и как она выражается в слове, остается открытым. Исходной точкой последующих размышлений является наблюдение, что в истории поэтики и философии языка гипотезы о языковой энергии тесно переплетены с проблемами медиальности языка. Так что дискурс об энергии языка не столько нацелен на прояснение интерференции «говорить» vs. «делать», сколько сосредоточен на общих проблемах медиальности.
Начиная с античных времен вплоть до XXI века дебаты вокруг энергетического потенциала произносимого слова оказываются чрезвычайно чувствительны к медиальной форме. Прежде всего здесь возникают тесные отношения между теориями речи и образа. Энергия в этих дебатах оказывается тем фактором, который связывает медиальность речи и образа между собой. Таким образом, понятие «энергии языка» реализуется преимущественно через тенденцию вербальных знаков к иконичности, можно даже сказать, что языковая энергия осуществляется как энергия изобразительная. В то же время дискуссия об энергетике письменной речи развита очень слабо или ведется как бы исподволь. Только около 1900 года наравне с энергетическими моделями речи и образа выделяется в зачаточном виде концепция энергии письма.
Эту асимметрию, приведшую к забвению письма, можно было бы вменить в вину графоскептической философии языка, которая в своей фиксации на произносимом слове упорно признает лишь «энергию речи», но не «энергию письма». Отсутствие шрифто-энергетического дискурса было бы, таким образом, частью слепоты к графеме, которой отмечены размышления о языке до недавнего времени. Но дискурсивное пустое место «энергии письма» можно лишь частично объяснить фонологоцентризмом. Тем более что с укреплением теорией медиа в минувшие десятилетия не в последнюю очередь велась интенсивная работа над тем, чтобы раскрыть латентные графоцентризмы истории культуры. В результате был обнаружен большой культурный слой сцен, материалов, инструментов, аппаратур, жестов и техник письма, что внесло немалый вклад в выработку новой дисциплины – «науки письма».
Однако эта «наука» осталась достаточно равнодушной к проблемам энергии или, скорее, развила односторонний интерес к этому вопросу. Энергия в этом контексте попадает в поле зрения прежде всего как физическая величина, как двигатель информационно-технологических перемен в сфере методов сохранения информации и коммуникации. Как ни важна роль, отводящаяся энергии внутри этого медиаэволюционного сценария, но все же на концептуальном уровне ею пренебрегали, поскольку теоретики медиа и коммуникации имеют склонность трактовать историю технических средств информации как историю исчезновения энергии. В первую очередь дигитально ориентированная теория медиа сходится на том, что понятие энергии неактуально, поскольку его заменило понятие информации. Показательным для этой позиции является (отчасти тавтологический) постулат Норберта Винера «информация – это информация, а не вопрос материи или энергии»317. Формулировка Винера обозначает исторический и структурный вектор «движения от энергетических к информационным режимам»318. С таким изменением парадигмы энергия была аналитически отделена от всех других процессов, связанных с передачей информации: «Источник энергии отделен от процесса передачи информации или применения знаний. Это становится очевидным на примере телеграфа, в устройстве которого источник энергии и канал связи не зависят от того, является ли письменный код французским или немецким»319.
Эта исходная ситуация создает две сложности для поиска ответа на ранее поставленный вопрос, какие медиальные ассоциации сопровождают рече-энергетические концепции:
1. Первая трудность объясняется требованием освоить понятие, которое в известной мере ускользает от теории медиа или объявляется с ее стороны беспредметным. Но если проблема энергии в некотором смысле исключается из дискурса о медиа, нужно поставить вопрос более четко. Что мы вообще имеем в виду, когда говорим об энергии языка? Различные факторы внесли сюда значительную терминологическую путаницу. С середины XIX века преобладает физическая концепция энергии, но наряду с ней существует более старая традиция этого понятия, существующая в риторике, философии и эстетике, и ее следует также принимать во внимание. Эту традицию перекрыл и частично заслонил концептуальный массив энергетического монизма. Он способствует мощному проникновению энергии в различные области знания и искусства. Универсальное применение энергетического императива и вместе с ним установившаяся высокая конъюнктура понятия энергии привела к экстремально свободному и неопределенному употреблению этого понятия. Его семантическая поливалентность дополнительно обогащается благодаря наличию в языке смежных понятий, которые употребляются как его синонимы, например: сила, интенсивность, импульс, побуждение, движение и т. д. Эта многозначность подсказывает догадку, что в случае «энергии» мы имеем дело не столько с понятием, сколько с метафорой. Но эта основополагающая метафоризация энергии оказывается, со своей стороны, центральной для понимания концепции энергии языка.
2. Вторая трудность – понимание взаимосвязи языка, энергии и медиальности. Если рассматривать дебаты вокруг энергетического измерения языка, то можно обнаружить, что эти дебаты связаны с вопросом о медиальном статусе языка и его взаимоотношениях с другими видами медиа. Эти дебаты уходят корнями к эпохе Античности, находя продолжение в эпоху Просвещения, но заметно сдвигаясь в эпоху модерна к дискуссии об отношениях слова и письма. Неизменным, несмотря на этот сдвиг, остается один аспект: энергетическое измерение языка заключается по большей мере в преобразовании словесных форм, в расширении их семантических границ.
Я хотела бы рассмотреть обозначенные трудности в три этапа. Сперва я сделаю короткий экскурс в историческое происхождение понятия энергии. В нем происходит скрещение нескольких значений – кинетического, онтологического и семантического, – которое и предопределяет смысловую гибкость понятия энергии, а также различные варианты ее медиализации. Затем я перейду – после обращения к предпринятой Гердером энергетической ревизии «Лаокоона» Лессинга – к гумбольдтовской философии языка и к разработанному в ней концепту языковой энергии. Гумбольдтовское исследование языка имело, возможно, наиболее богатые философские последствия в оформлении энергетической концепции речи. Последним этапом станет интерпретация языковой энергетики Гумбольдта в трудах Павла Флоренского и описание его попыток обнаружить особую энергию письма, не совпадающую с энергией устной речи.
IУходя корнями в античные представления о движении, изменении и становлении формы, энергия практически уже в момент ее понятийного обозначения Аристотелем развивается в трех разных направлениях: как физическое, как метафизическое и как риторическое понятие. В физике энергия означает способность системы к движению. Kinesis при этом понимается как «действительность существующего в возможности»320. Заложенное в этой плоскости значение движения в смысле процесса осуществления или реализации Аристотель разрабатывает впоследствии в рамках метафизики, когда говорит о действии и потенции. Здесь enérgeia означает исполнение и превращение возможного в актуальную действительность. В отличие от комплементарного ей понятия dynamis, которое предполагает находящуюся в латентном состоянии возможность, enérgeia отвечает за осуществление и перевод возможного в сущее. Она закрепляется за материальным носителем, реализованной потенцией, исполненным действием. Таким образом, понятие энергии четко отделяется от феноменов, связанных с неопределенностью возможности быть или не быть, заключенных в dynamis. В аристотелевской концепции бытие энергии недвусмысленно названо действительным. В нем сослагательное наклонение «может быть» становится изъявительным «есть» или вовсе – повелительным «должно быть».



