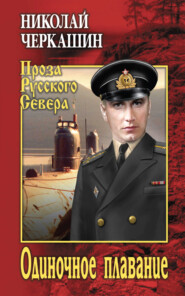скачать книгу бесплатно
– Белый танец! Белый танец! – закричала вдруг Азалия, вытаскивая из-за стола Симбирцева.
– А мне – мне?! – протянула руку Королева.
Это уже потом я догадался, почему именно мне – просто я оказался в этот момент рядом, а к ней ринулся, несмотря на то, что приглашали женщины, Медведев, весьма нетвердо уже державшийся на ногах; спасаясь от него, она и ухватилась за меня. Все это осозналось позже, а тогда, в первую минуту, меня обдало жаром посреди изрядно настынувшей уже комнаты. Все было так, как в первый школьный вальс: обмирая от робости, блаженства и счастья, я обнял ее за талию и повел, повел, повел, стараясь не столкнуться с какой-нибудь слишком уж энергичной парой. Карта Арктики поплыла перед глазами, качались чьи-то плечи в погонах и бретельках… Тур с Королевой – это было достойное вознаграждение за утренний ужас, пережитый на Шестом причале. Правда, ей, и я заметил это ничуть не обманываясь, было все равно, в чьих объятиях покачивалась она сейчас; полузакрыв глаза – боже, какие ресницы! – она была не здесь, музыка, должно быть, очень памятная ей, отрешала ее от всего… Она передвигалась автоматически, как искусно разработанная кукла. Но я благодарил судьбу за то, что все же держу Королеву за плечи, касаюсь щекой ее волос, вдыхаю теплый аромат ее шеи, а при поворотах бедро ее слегка налегало на мое…
Я ничего не знал о ней. Для меня она была просто Красивой Женщиной вне всякого быта. Я и знать о ней ничего не хотел, чтобы чудо о Снежной Королеве, явленное сегодня в центральном посту, не поблекло от пошлых житейских мелочей и не развеивалось как можно дольше.
Потом с ней танцевали наперебой и Медведев, и Симбирцев, и Абатуров, и Молох… И снова Медведев, Маринеско Дикой эскадры, моряк удачи…
Я ушел на кухню, где мичман Марфин кипятил воду в электросамоваре и рассыпал по стаканам растворимый кофе. Каким родным и милым человеком показался он в минуту душевной невзгоды. Конечно, он тоже был под мухой, потому и засыпал в кофемолку вместо зерен арабики кедровые орешки; как ни странно, заваренный кипятком помол дал прекрасный напиток, не отличимый по цвету от кофе, но с нежным ароматом кедрового молочка. Он так и не заметил свою ошибку, а я не стал раскрывать ее и попивал свой «кофе по-сибирски», глядя в прострел распахнутых дверей, как тасуются в их рамах танцующие пары.
6
Людмила зябко передернула плечами – из щелей, заклеенных старыми штурманскими картами, дуло так, что свечи оплавлялись наискось. Медведев, не прерывая спора – что эффективнее при аварийном всплытии: воздух высокого давления или подъемная сила рулей, – расстегнул китель, снял и накрыл им плечи Королевы.
Терпеть не могу, когда женщины напяливают на себя фуражки мужей или набрасывают их тужурки, – в этом много жеманства, и жеманства пошловатого. Но медведевский китель обнимал Людмилины плечи мужественно и романтично. Из нагрудного кармана торчал уголок расписки за полученные торпеды, подворотничок сиял девственной белизной, и я со стыдом подумал, что не смог бы поручиться за подобную свежесть своего ворота. Там, в «Золотой вше», в моей комнате, плавали в цинковом тазу, кроме неотстиранных рубах, парадное кашне и с полдюжины белых тряпиц, отрезанных от старой простыни. Щегольской китель Медведева сшит на заказ, над клапаном верхнего кармана сияли командирская «лодочка», сделанная ювелиром из настоящего серебра, и бронзовый знак нахимовского училища. Людмилины волосы – светлые, неуемные – ниспадали на кавторанговские погоны, закрывая большие звезды на желтых лучах. Она не сняла его китель, она приняла его. Королева сделала свой выбор. Увы, это так! И зря ты, Гоша, соляр пил!..
Я выбрался в прихожую, отыскал в копне черных шинелей свою и незаметно ушел.
Я стал себе чужим и противным, я смотрел на себя со стороны, видел невзрачного «кап-лея» с мелким крошевом звезд на погонах, в замызганной лодочной ушанке, с пятном сурика на обшлаге, с пуговицей на левом борту, закрепленной на спичке… Я жалел его и ненавидел за то, что не накрыл ее плечи своим кителем, за то, что не он познакомился с ней первым и не остался там по праву первопоклонника… Я гнал его из дома прочь, вниз, в гавань, на подводную галеру… Все! Хватит страданий! На лодку! Будем служить!
* * *
Скатерть белая, конечно же, была залита вином. И гусары, если еще не спали беспробудным сном, то были весьма близки к этому состоянию.
Медведев взялся провожать сразу двух дам – Людмилу Королеву и Свету Черную: они жили на одной улице. Азалию повел доктор Молох, прежде обменявшись тайным пожатием пальцев с Катериной, благо в темноте и сутолоке прихожей это можно было сделать незаметно.
Азалия тихо злилась на Медведева, который, казалось, совсем забыл их недавнюю страстную ночь в мурманской «Арктике» и поплелся провожать эту дуру Людку с ее малахольной соседкой. Утешало несколько то, что рядом шел красавец лейтенант, к тому же москвич, он рыцарски прикрывал ее от ветра и рассуждал при этом о ее здоровье:
– Возможно, все ваши недомогания связаны с тем, что ваша кровать стоит в геопатогенной зоне и ее надо просто передвинуть в другое место… – выкрикивал Молох в затишьях между снежными шквалами.
– Это не так-то просто сделать – у меня очень тяжелая двуспальная кровать из венгерского гарнитура «Марика». Знаете, за две тысячи, из мореного дуба?
– Я готов вам помочь.
– Хорошо, как-нибудь я вас приглашу…
Они уже вошли в подъезд и поднимались по лестнице.
– Но сначала нужно определить, действительно ли кровать стоит в геопатогенной зоне.
– Ой, а вы умеете? – спросила Азалия, вставляя ключ в замок обитой кожей двери.
Вместо ответа Молох быстро обнял ее и вобрал, втянул, всосал в себя ее податливые мягкие губы, горьковатые от французской помады и болгарского табака. Так они и ввалились в квартиру – в обнимку…
Глава шестая
1. Башилов
Едва я приоткрыл дверь подъезда, мне показалось, будто я заглянул в топку, бушующую белым пламенем. Пуржило неистово и небывало. Тугой воздушный ком ударил в спину, и я, как на коньках, заскользил по раскатанной дороге, пока другой вихрь не сдернул меня за полы шинели в сугроб. Я засмеялся от удовольствия. Со мной играло невидимое мягкое существо. Но существо было сильным. Оно легко водило меня из стороны в сторону. А когда ударяло в лицо, то перехватывало дыхание.
Поземка не мела, она текла сплошными белыми струями, которые время от времени закручивались в воронки.
Я брел под гору к нижним воротам подплава, ориентируясь по углам домов, едва выступавшим из снежной замети. Фонари слепо помигивали, видимо, буран замыкал провода, и когда они все же разгорались, то просвечивали сквозь роящийся снег тусклыми белесыми шарами.
Шквалы один за другим врывались в улицы, крутились среди скал и домов, и мчались, и ревели в одних только им ведомых руслах. Они скатывались по крышам, как по водопадным ступеням, прорывались в арки, словно в бреши плотин, и низвергались в гавань, обрушивая белое половодье на черные струги субмарин, выдувая из шпигатных решеток визжащий вой. Визжало все, за что мог зацепиться ветер. Дрожащее разноголосье сливалось в жутковатый хор нежити. Прорвалась всеобщая немота, и вещи запели, заныли, застонали… Выли дверные скважины и воронки водосточных труб, стальные жабры подводных лодок и чердачные жалюзи, провода, леера, антенны… Захлопал брезент на зенитных автоматах. Загромыхала сорванная жесть кровель. Задребезжали стекла.
Вертушка турникета в воротах подплава вращалась сама по себе, пропуская белые призраки, а те не торопились, гремели настывшим железом и тут же с порога ныряли в снежную кутерьму, мчались по причалам кубарем, вскачь, коловоротом… Ну, мело!
Пудовый крюк железнодорожного крана сорвался с привязи. Он мечется под вздыбленной стрелой буйно и страшно, словно огромная костистая рука крестит все, что попадает под скрюченный палец, – рельсы, сопки, рубки подводных лодок, невидимые в пурге дома, арсеналы, казармы…
С мостика нашей лодки бьет прожектор. Луч его вязнет в метели, шквалы сдувают узкий свет. Шквалы сдувают меня с голых досок настила. Я тараню упругую стену ветра, перебираю ногами, но ни на шаг не приближаюсь к трапу. Все, как в дурном сне – идешь, и ни с места. Якорный огонь на корме брезжит маняще и недоступно. Я превратился в белую пешку, которую шторм передвигает с клетки на клетку, с половицы на половицу. Игра уже не игра. Снежный тролль кинулся под ноги, как самбист, которому нужно сбить противника. И ведь сбил же! Шинель тут же завернулась на голову, ветер вздул ее черным парусом и поволок меня по скользкому настилу туда, где причал обрывался в море. И зацепиться не за что, и никому не крикнешь – верхний вахтенный укрылся в обтекателе рубки, а обшивка гудит как огромный бубен.
Но буря смилостивилась и швырнула мне капроновый конец, за который стаскивают сходню на борт. Обычно трос скручен в бухту и лежит на причале словно круглый придверный коврик. Но ветер давно разметал кольца… Подтянувшись, я ухватился за леер родной сходни. От медного поручня рубки меня не оторвать. Цепко перебираю руками: еще шесть шажков по карнизному краешку борта – и ныряю в овальную нору обтекателя рубки. Здесь темно и тихо, если не считать бутылочного подвывания газоотводного «гусака». Сверху из выреза мостика еще захлестывают обрывки шквалов, но я уже дома. Отряхиваюсь, отфыркиваюсь, сдираю с усов сосульки. На рулевой площадке тлеет плафон, под ним боцман – в ватнике, сапогах, шапке, дымит сигаретой, поглядывая в лобовой иллюминатор, полузалепленный снегом.
– От бисова свадьба! – роняет Белохатко в знак приветствия. От боцмана веет ямщицким степенством, уютно становится от его дымка и от хохлацкого говора.
– Что командир?
– Еще не прибыли.
Шахта входного люка обдает машинным теплом, соляром, духом жилья и камбуза. Спускаюсь по трапу в центральный пост, и белые взрывы бурана бушуют уже высоко над головой, над подволоком, над рубкой…
В лодке все готово к немедленной даче хода на тот случай, если лопнут швартовы. Но на палы причальной стенки заведены дополнительные концы – не оторвет. К тому же мы в «золотой середине» – между стенкой и лодкой Медведева – та стоит крайним корпусом. На ней тоже завели дополнительные швартовы, перебросив их на наши кнехты.
Медведева пока нет, и вряд ли он скоро появится. Службой у него правит старпом – сутулый мрачный субъект с язвой желудка, которую скрывает от врачей, дабы поступить на офицерские классы.
У нас все «на товсь!»: включены машинные телеграфы, прогреты моторы. Штурман через каждые четверть часа выбирается с анемометром на мостик – замеряет ветер. Прибор у него зашкаливает, и Васильчиков не устает этому удивляться:
– Тридцать два метра в секунду! Во дает!.. Боцман, гони верхнего вахтенного на причал! Если нас оторвет, будет хоть кому чалки принять!
Верхний вахтенный – матрос Данилов – греется в ограждении рубки, засунув под тулуп лампу-переноску. С превеликой неохотой выбирается он на причал и прячется за железнодорожным краном, колеса которого застопорены стальными «башмаками».
Ветер сдувает с неба звезды, как снежинки с наших шинелей. Вода в гавани заплескалась, заплясала, зализала корпус, вымывая снег из шпигатных решеток. Лодку покачивает. В такую погодку хорошо бы погрузиться да переждать ураган на грунте. Но командир еще не пришел, нет и Симбирцева.
Боцман с сигнальщиками затягивают брезентом мостик, чтоб не наметало в ограждение рубки. Вырез в крыше обтекателя – «командирский люк» – закрыли железной заглушкой. Законопатились.
2
Три звонка. Это сигнал верхней вахты о том, что идет кто-то из начальства. Вертикальный трап дрожит и вздрагивает, в обрезе нижнего люка появляются ботинки, облепленные снегом. Начальников на подводных лодках узнают снизу – по обуви. Эти широкие сбитые каблуки ботинок сорок пятого размера могут принадлежать здесь лишь одному человеку – Гоше Симбирцеву. Я радуюсь его приходу, я радуюсь ему, как родному брату.
Старпом – единственный на корабле человек, с которым я могу разговаривать на «ты», ничуть не поступаясь субординацией. У нас с ним равные дисциплинарные права и равное число нашивок на рукавах – две средние и одна узкая. У нас с ним все рядом – места за столом, каюты в отсеке, столы в береговой канцелярии. Наши пистолеты хранятся в соседних ячейках… Мне не терпится затащить его в каюту и посидеть, как давно не сидели, – с веселой травлей под крепкий чай, с нечаянными откровениями и нетягостным молчанием.
Меня опережает дежурный по кораблю:
– Смирно!
Лейтенант Симаков подскакивает с рапортом.
– …Плотность аккумуляторной батареи… Дизеля прогреты. Готовы к немедленной даче хода. Команда на местах. Двоих людей выделили для наблюдения за швартовыми.
– Выделяют слизь и другие медицинские жидкости. Людей на флоте – назначают. Ясно?
– Так точно. Назначены для наблюдения за швартовыми. – На бедре у Симакова пистолетная кобура, слипшаяся от застарелой пустоты, китель перехвачен черным ремнем, бело-синяя повязка надета с щегольским небрежением – ниже локтя.
– Повязку подтяни. На коленку съехала…
Симбирцев разглядывает его так, как будто видит впервые.
Глядя на них, трудно представить, что вчера на «мальчишнике» по случаю дня рождения Симбирцева Симаков хозяйствовал на старпомовской кухне и, когда вдруг кончился баллонный газ, проявил истинно подводницкую находчивость: поджарил яичницу на электрическом утюге.
– Идем, Сергеич, посмотрим, есть ли жизнь в отсеках?
Рослый, крутоплечий, с черепом и кулаками боксера-тяжеловеса, Симбирцев ходит по отсекам, как медведь по родной тайге, внушая почтение отъявленным дерзецам и строптивцам.
Для него старпомовский обход отсеков не просто служебная обязанность. Это ритуальное действо, и готовится он к нему весьма обстоятельно. Сквозь распахнутую дверцу каюты вижу, как Гоша охорашивается перед зеркальцем: застегивает воротничок на крючки – китель старый, «лодочный», с задравшимися от частого соприкосновения с железом нашивками, но сидит ладно, в обтяжечку; поправляет «лодочку» на груди, приглаживает усы, приминает боксерский ежик новенькой пилоткой с прозеленевшим от морской соли «крабом»…
– К команде, Сергеич, – перехватывает мой взгляд, – надо выходить, как к любимой женщине… франтом.
Симбирцев натягивает черные кожаные перчатки (не пижонства ради, а чтобы не отмывать потом пемзовым мылом руки, чернеющие от измасленного лодочного железа), вооружается фонариком – заглядывать в потаенные углы трюмов и выгородок, и мы отправляемся из носа в корму. Нас встречают громогласным «смирно», а произносить «вольно» старпом не спешит…
– А кто это там стоит в позе отдыхающего сатира? – вглядывается Симбирцев в машинные дебри отсека. – Е-ре-ме-ев!.. Ручонки-то опусти, была команда «смирно».
Еремеев неделю как нашил лычки старшины второй статьи – теперь пусть молодые вытягивают «руки по швам»… Симбирцев не из тех, кто любит, когда перед ним замирают «во фрунте», но надо сбить спесь с новоиспеченного старшины.
– Ёрема, Еремуш-ка… – в ласковом зове старпома играет коварство. – Ты чего такой застенчивый? На берег идешь – погон вперед, чтобы все видели. По килограмму золота на плече. Расступись, суша, – мореман идет! И домой уж, поди, написал: «Мы с командиром посоветовались и решили…»
В рубке радиометристов прыснули.
– Что, была команда смеяться?!
Команды не было, но это именно то, чего добивался старпом. Над гоношистым Еремеевым посмеялись сотоварищи. Это в десять раз больнее, чем простое одергивание.
Матросы любят Симбирцева. Он распекает без занудства: справедливо, хлестко и весело. Его разносы сами собой превращаются в интермедии. Улыбаются все, даже сам пострадавший, хотя ему в таких случаях бывает – и это главное – не обидно, а стыдно.
По короткому трапу Симбирцев спускается в трюм. Я – за ним. Луч фонарика нащупывает в ветвилище труб круглую голову матроса Дуняшина. Голова уютно пристроилась на помпе, прикрытой ватником.
– Прилег вздремнуть я у клинкета… Подъем! – Дуняшин вскакивает, жмурится…
– А кто будет помпу ремонтировать? – ласково вопрошает старпом. – Карлсон, который живет на крыше? Хорошо спит тот, у кого матчасть в строю. Иначе человека мучают кошмары… Чтобы к утру помпа стучала, как часы. Ясно?
– Так точно.
Из-за пурги переход на береговой камбуз отменили, ужин будет на лодке сухим пайком. Коки кипятят чай и жарят проспиртованные «автономные» батоны: лодочный хлеб не черствеет месяцами, но если не выпарить спирт-консервант, он горчит.
У электроплиты возится кок-инструктор Марфин, вчерашний матрос, а нынче мичман. Фигура Марфина невольно вызывает улыбку: в не подогнанном кителе до колен и с длинными, как у скоморохов, рукавами он ходит несуразно большими и потому приседающими шагами. По натуре из тех, кто не обидит мухи – незлобив, честен.
Марфин, родом из-под Ярославля, пошел в мичманы, чтобы скопить денег на хозяйство. По простоте душевной он и не скрывает этого. В деревне осталась жена с сынишкой и дочерью. Знала бы она, на что решился ее тишайший муж! Да и он уже понял, что подводная лодка – не самый легкий путь для повышения личного благосостояния.
У Симбирцева к Марфину душа не лежит: не любит старпом тех, кто идет на флот за длинным рублем. Симбирцев смотрит на кока тяжелым немигающим взглядом, отчего у Марфина все валится из рук. Горячий подрумяненный батон выскальзывает, обжигает Марфину голую грудь в распахе камбузной куртки.
– Для чего на одежде пуговицы? – мрачно осведомляется старпом.
– Застягивать, – добродушно сообщает Марфин.
– Во-первых, не «застягивать», а «застегивать», во-вторых, приведите себя из убогого вида в божеский!
Марфин судорожно застегивается до самого подбородка. Косится на китель, висящий на крюке: может, в нем он понравится старпому?
– Эх, Марфин, Марфин… Тяжелый вы человек…
– Что так, товарищ капитан-лейтенант? – не на шутку встревоживается кок.
– Удивляюсь я, как вы по палубе ходите. На царском флоте вас давно бы в боцманской выгородке придавили. – Марфин сутулит плечи.
– В первом – окурок, в компоте – таракан. Чай… Это не чай, это сиротские слезы!..
Окурок и таракан – это для красного словца; чтобы страшнее было. Но готовит Марфин и в самом деле из рук вон плохо.
– Вы старший кок-инструктор. Вы по отсекам, когда матросы пищу принимают, ходите? Нет? Боитесь, что матросы перевернут вам бачок на голову? Деятельность вашу, товарищ Марфин, на камбузном поприще расцениваю как подрывную.
Марфин ошарашенно хлопает ресницами. Мне его жаль. Он бывший шофер. «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник»… Беда и для экипажа, и для Марфина. Что с ним делать? Списать? Переучить? И то и другое уже поздно.
А тут еще его прямой начальник – Федя-пом.
3
Помощник командира старший лейтенант Федя Руднев внушил себе, а может, так его закодировали враги «Буки 410-й», что он обладает недюжинным кулинарным талантом. Иногда, по настроению, он приходил на камбуз и брал бразды правления в свои руки. Штатные коки жались по переборкам, наблюдая, как их главный начальник шаманит с кастрюлями и жаровнями.
Федя считал, что больше всего ему удаются украинские борщи. Он полагал себя великим специалистом в деле приготовления украинских борщей, хотя любой хохол, отведав «Фединого супчика», сначала бы очень удивился, что это блюдо столь безапелляционно названо украинским борщом, а затем бы и обиделся.
– Что это?! – с непритворным омерзением отшатывался от тарелки с «украинским борщом» доктор, подцепив ложкой нечто черное, морщинистое, хвостатое.
– Сушеная груша, – хладнокровно пояснял автор борща. – В украинский борщ всегда сушеные груши кладут. Фирменный секрет. Ноу-хау.
– У тебя, Федя, несколько странное представление об украинском борще, – ласково, стараясь не задеть авторских чувств кока-экспериментатора, вступал в беседу Симбирцев. – В украинский борщ не кладут все, что найдешь на камбузе и в провизионках.
– Но груши кладут! – отстаивал свое ноу-хау помощник.
– Тогда это будет компот, а не украинский борщ, – замечал Башилов.
– Да это вообще шурпа какая-то! – возмущался Мухачев.
– Помесь лагмана с компотом!
Пораженный единодушием сотрапезников, Федя Руднев затихал, но только для того, как потом оказывалось, чтобы изобрести новые варианты украинского борща. И когда в недельном меню, вывешенном на дверце кают-компании, появлялось это коварное – «украинский борщ», все настораживались. И не зря. И едва вестовой выставлял тарелки с дымящимся красноватым варевом, как едоки с непритворным интересом начинали рыться ложками в гуще, отыскивая очередное Федино «ноу-хау». И, конечно же, кто-нибудь самый подозрительный и привередливый патетически восклицал:
– Федя, что это?