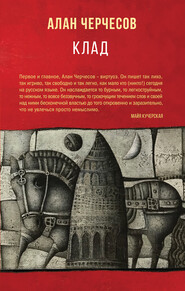
Полная версия:
Клад
– Жесть!
– Ситуация экзистенциального выбора для всех пятерых персонажей. Куда ни кинь, всюду клин. Только тикает время и летит по степи экипаж.
– Круто! Давай-ка еще.
– Остальное пока не написано.
– Может, проверим на слух?
– Хочу написать рассказ «Иногда» – о релятивизме человеческой сущности. Иногда герой трус, иногда он смельчак, иногда – бунтовщик, иногда – конформист. Вся судьба персонажа сводится к этому «иногда». Словно Фортуна кидает игральные кости и, в соответствии с выпавшей суммой, определяет его поведение. Самое странное, что в любой из своих ипостасей – труса и смельчака, лицемера и простака, подонка и праведника – герой остается собой от макушки до пят. Каждая роль ему впору, и все они истинны. Оттого-то он сам – сплошь обман, перманентная ложь… Зря насупился, это не про тебя. Это про «я живут».
– В микромикроформате. Зачетный рассказ.
И подумал: зачетный удар. Звезданула под дых. Не нокаут еще, но нокдаун приличный. Интересно, давно ли она тренируется?
Жена поднялась, промазала пальцами мимо его напряженной руки, чуть задела ребро подлокотника, распустила чалму, по-кошачьи чихнула и босиком прошла в спальню. Там стряхнула халат на кровать, достала из тумбочки фен, распутала шнур, засунула вилку в розетку, ссутулилась, как вопросительный знак, перед зеркалом и битый час сушила волосы, пытаясь узнать себя в отражении, лишенном одежд и надежд.
* * *Кошмар навещал ее ночи не часто, но всякий раз повергал ее в оторопь.
Сон затевался, как фильм в кинотеатре, причем зрители были еще и актерами.
…На улице ливень. Промокнув до нитки и отстояв к кассе очередь, супруги заходят в малюсенький зал, освещенный мерцающей лампой в тюремном решетчатом коконе, и по мокрой картонке, гремя кандалами, шаркают в глубь помещения. Перед экраном они замирают и понуро таращатся на пригвожденный к холстине портрет.
Прямо под ним, распластав телеса пирамидкой в окатные мякоти, примостился корсар-продавец. Пахнет дождем и заброшенным кладбищем. Цветов почти нет, а что есть – те пожухли, потухли окраской, скукожились.
Невозможки не видно. Не видно совсем – ни на квелом экране, ни в зыбкой, обманчивой комнате.
Отсутствие мухоловки незримо (не только на пленке, но и наяву, где явь – это сон, а сон – это явная явь, явь в квадрате, а может, и в кубе. Нет ничего достовернее этой апатетической яви), но более чем осязаемо. Больше, чем нарочитое и оттого ирреальное, невсамделишное присутствие нагроможденных повсюду – включая оживший мазками экран – аляповатых предметов: анатомических банок, лабораторных реторт, химических колб, чернокнижных шкафов с корешками седых фолиантов, витиеватых гирлянд из хрустальных кишок, цепастых кадил с золоченой трефовой макушкой, призрачных амфор, струистых подсвечников, алчущих кубков, объемистых урн с безымянным покомканным прахом, ряженных в женские тулова ваз, чучел плюгавых зверушек и юродивой стаи химер в целлулоидном снопе луча, искусанном роем подснеженных мошек.
Вместо поддона с горшком на прилавке стоит попугай. Его лихорадит. Откликаясь на дрожь, мелко звякает ложка в сухом побурелом стакане, что плесневеет в заволглом углу, на пристенных задворках столешницы. Докучливый звук нагоняет хандру.
На бельмастом экране – скелеты деревьев, свинцовое небо, тоска и зудящая музыка.
Внезапно тяжелую поступь саундтрека (перегуды кольчужной, воинственной готики) нарушает щелчок за спиной. Сразу следом – шаги. Лицо продавца коченеет, черты застывают, как воск, и превращаются в слепок предсмертного зоркого ужаса. Медленно тая, воск отекает на жидкие волны тельняшки.
Пока обнажается череп, шаги за спиной все идут. Идут очень быстро, но медленный воск с головы продавца почему-то стекает быстрей.
Попугай не кричит. Даже когда опадает со страху линялыми перьями. Те выстилают прилавок, крошатся, дробятся, микробятся и пресуществляются в пепел. Где-то в подкорке скоблит апатичная мысль: может, зарыться в него, приодевшись дохлятиной, рухнуть на корточки и затаиться?
Чавкая по волдырям на размокшей картонке, шаги подбираются ближе и ближе, вот-вот – и войдут в твою плоть. Убежать нету сил, да и некуда. Сил нет даже на то, чтоб о бегстве подумать.
Бесперый жако, неуклюже вспорхнув, пикирует кляксой на рыхлый экран, натыкается на вездесущий портрет, срывается в штопор и низвергается тушкой на череп хозяина. Поклевав по рябой неподатливой кости, попугай принимается злобно карябать когтями по темени.
Крупным планом – витье червячков. Они выползают из норок глазниц, расплетаются, ткут канитель и начиняют собою зарубки, вминаясь сегмент за сегментом и спайка за спайкой в кустистые борозды, после чего (треск разряда, шипение жареной слизи) расплавляются в жижу и засыхают разводом лоснистых чернил. Нацарапав тату, птица победно кудахчет, машет плешивыми крыльями и растворяется в желтом дыму, повалившем из пышущей зноем подсобки.
Едва попугай исчезает, как тут же зола на прилавке опять обращается в перья.
Объектив отплывает на локоть назад.
Шаги приближаются, чавкают. Перья на плечи еще не надеты.
Завороженно глядя на череп, супруги читают послание. Что-то очень знакомое. Похоже на эпитафию. Крупным планом – лиловая надпись: «Не взрыв, но всхлип». Пророчество Элиота, узнает цитату жена, впопыхах садится на корточки (глухо звенят кандалы), тянет мужа за плащ и, очертив мыслью круг, повторяет поэму с начала, точно магическое заклинание: «Мы полые люди, мы чучела, а не люди…»
Скучно хрустят позвонки – это шаги проторяют их с мужем согбенные спины.
Заполошно мелькает экран. Опрокинувшись конусом в матовый омут небытия, он волочит с собою в воронку свербящую гиблую музыку, пока не погаснет в своем потайном заграничье.
Хыль-хыль, колошматится пленка на голой бобине. Хыль-хыль, хы-лы-хыль, хрррр…
Вот и фильму конец!
Женщина просыпается и какое-то время слушает уханье сердца, но слышит не скачущий пульс, а смачное чавканье быстрых шагов, удивляясь тому, что лежит не в гробу, и что рядом в кровати лежит ее муж, и что оба они не на корточках…
* * *– Прочитала намедни занятную повестушку, по-французски фривольную – с галльской перчинкой и ироничным прищуром. Главный герой, довольно давно, довольно удачно и плодовито женатый, как-то раз видит сон, а во сне том – ловушка, и, надо заметить, ловушка весьма эротичная. Написано тонко, подробно и, для особо нескромных читателей, в самых интимных и тесных местах по-аптекарски скупо спрыснуто пошлостью. В этом чувственном, сказочном сне наш герой лобызает совсем не жену, а давно позабытую и навсегда безвозвратную женщину, которую тайно когда-то любил и про которую честно не помнил лет двадцать. А тут вдруг она возьми да воскресни в его каверзном сне. Этот сон-поцелуй так первозданно прекрасен, запретно красив и неистово вкусен, что размывает фундамент его повседневности, от уюта которой теперь остаются руины. Герой потрясен, приворожен, сражен наповал. Все идет вкривь и вкось. Ничто ему больше не мило – ни дом, ни жена, ни возня карапузов. Все отныне поддельно, неправедно, глупо, будто его обокрали на сокровенное счастье. День за днем он томится желанием встречи с возлюбленной из обольстительных грез, которые чуть ли не каждую ночь повторяются. Наконец, спустя месяц-другой ему удается назначить предмету влечения рандеву. Казалось бы, вот она, благополучная кульминация. Не тут-то было! Повестушка, напомню, с прищуром… В ходе встречи воздушные замки героя один за другим рассыпаются прахом: все почти так, как и было в его сновидениях, но при этом настолько не так, что его накрывает отчаяние. Нет, девица по-прежнему очень пригожа, стройна, соблазнительна, пахнет свежо и роскошно, «как сиреневый сад под дождем», но чего-то ему не хватает. Какой-то заветной искры, от которой займется вселенский пожар. Ее-то и нет, этой громкой искры. Нету даже искринки – только снулые угли на сердце да сухость во рту, беглость собственных глаз и першение в горле. Остается одна лишь надежда – на поцелуй, пережитый во сне. Но его еще нужно проверить ущербной реальностью. С добрый час утопист набирается смелости. Наконец, застонав, в полуобмороке, заключает в объятия дамочку и впивается ей в уста. И вот тут – полный крах: уста-то ее – не уста, а обычные губы, чересчур плотоядные и как-то банально сговорчивые. Нет в них должной гордыни. Слишком покладисты для его ускользающей и – уже навсегда – несбыточной героини. Вкус поцелуя его предает и оказывается невыносимым. Воротившись домой, кавалер запирается в кабинете и безутешно рыдает, понимая, что жизнь его кончена. Что она его облапошила. С этой ночи ничто уж не сможет его убедить, что она состоялась. Единственной истинной радостью в ней оказался тот поцелуй, что настиг его ночью во сне приговором. Напоследок герой задается вопросом: возможна ли жизньнастоящая где-нибудь кроме сна?.. Такая вот повесть. Почти анекдот.
– И в чем тут мораль?
– Мораль здесь печальна: настоящая жизнь невозможна, если ты ее спутал с мечтой.
– Это если мечта не была настоящей.
– Может и так. Хочешь еще анекдот?
– Не хочу. Давай теперь чистую правду: зачем рассказала?
– Чистая правда бывает грязнее неправды.
– Я готов и запачкаться.
– Тогда начну с фактов. Длина кровеносной системы – без малого сто тысяч верст, что больше экватора в два с лишним раза. И всю эту кровь разгоняет в нас сердце одним лишь ударом. А влюбленное сердце, по статистическим выкладкам, бьется сильнее и чаще. Поди подгони под него габариты Земли!
– Как-то доселе планета справлялась.
– Вот именно –как-то! А вовсе не так, как должна. Факт в том, что на свете нельзя уместиться любви, чтоб совсем уж не скрючиться. Земля под нее приспособлена слабо.
– Венера – тем более. Дальше.
– Факт второй: вечный двигатель. Его попросту нет.
– Ну и что?
– А то, что все во Вселенной функционирует в рамках погрешности. Вот почему моторы ломаются, механизмы стираются, орбиты срываются, сердца замирают, кости дряхлеют, конечности высыхают, а бесконечности валятся в черные дыры. В каждом процессе заложена погибельная ошибка. И только одно не подвержено амортизации, не знает просчетов и промахов – смерть. От нее спасу нет. Она контролирует все и все гарантированно уничтожает. Что б мы ни делали, мы совершаем с оглядкой на смерть. Из-за нее мы трусливы, покорны, безропотны. Но при этом послушны мы хитро и скверно, эгоистически, нехорошо. Боимся не собственной низости, а за нее нам возмездия. Да еще приплетаем сюда небеса. Посмотри, как мы молимся! В каждой молитве клянчим пощады и сочиняем в уме дивиденды: дай нам, Боже, здоровья, удачи и денег. Мы поклоняемся сумыслом и полагаем, что Бог одарит нас счастливым билетом за то, что мы преклонили колени и на какой-то десяток минут отключили гордыню. Слезливость со свечкой в руке – это и есть основное Ему поднесение. Нет ничего подлее молитвы, похожей на лотерею и прописанной нам как великое таинство, священнодействие. Почему же мы просим, а не отдаем? Почему не попросим всевышнего взять от нас, а не дать? Да потому, что в нас говорит боязнь неизбежной кончины. В нас молится смерть, а не бессмертье души, в которое мы и не очень-то верим. Оттого-то нам надобен Бог-покровитель, а не Господь-грудничок, Коего каждый из нас, будь мы храбрее, был бы обязан взрастить в своем сердце и отдать Ему самые чистые и животворные соки души – отдать безвозмездно, просто за то, что позволил нам веровать. Мы ж предлагаем грошовый задаток в расчете на скорую прибыль. Ненавижу смотреть на молящихся. Ненавижу вранье. Ненавижу торгашество. Но больше всего ненавижу я смерть – ту, которая нас убивает при жизни. Все в этом мире впустую.
– И любовь – пустота?
– Нет. Любовь – ее жертва. Но жертва, опять же, впустую… И смех твой впустую. Им ты меня не проймешь. Пустоту не проймешь. Дырку в дырке не сделаешь.
– Если ты пустота, отчего же тогда тебе больно?
– Оттого что таскать пустоту – тяжело. Помнишь легенду о горемыке Сизифе? Кажется, я ее расшифровала. Камень, что бедолага прет в гору, и есть пустота. Греки те еще мастаки на метафоры. Да и боги у них человечней: грешат, попадают впросак, сквернословят и квасят без меры, как люди. Оно и понятно: все эти зевсы с афинами созданы были понашему образу и подобию, а не наоборот. Может, с тех пор как мы их согнали с Олимпа, и пошло все у нас вверх тормашками? Сам посуди: разве не проще поладить с собственными кровными шалунишками, заигравшимися на высокогорье в правителей, чем трястись поджилками из-за невидимого папаши, одного на шесть или семь миллиардов, у которого только и дел, что стращать, не платить алименты да лениться ударить палец о палец, чтобы явить нам свою справедливость? На сей счет, между прочим, имеется афоризм: если Бог есть, но делает вид, что Его нет, то не стоит Ему в этом препятствовать.
– А если Он шлет потом громы и молнии?
– Значит, вышел прокол с маскировкой.
– Выходит, Он все-таки есть?
– Выходит, Его слишком мало.
– Получается, надо помочь.
– Не мешало бы. Но тут мы опять возвращаемся к нашим истокам: Земля для любви приспособлена мало. Как и для самопожертвования. Хорошо, что хоть Богу прекрасно известно, что Он ни к чему не причастен. В этом и состоит Божий Промысел: быть ни к чему не причастным и осыпаться за это хвалой.
– Раньше ты в Него верила.
– А потом поняла: незачем вмешивать Бога в наши проблемы, выставляя сбежавшим сообщником. У Него и так высший срок: осужденный на вечность…
* * *Тысячи камер по городу были расставлены вот уже несколько лет, однако программу распознавания лиц внедрили лишь к февралю.
Распространителей масок поймали не всех и не сразу. Запрещенный товар скупали у мафии оптом и распродавали в подпольную розницу. Пользуясь тем, что ввоз масок в РФ подпадал под статью «контрабанда», подсуетились ушлые самоделкины. Оттеснив спекулянтов, они под завязку насытили рынок своей контрафактной продукцией. Спрос на латекс многократно возрос. Потом резко упал – когда за ношение масок ввели админштраф в пятьсот минимальных окладов. Большинству потребителей наказание было не по карману, а посему «вероломные планы врагов подорвать госустои страны» потерпели фиаско.
– Говорят, намечаются обыски. А еще говорят, научились сквозь маски прочитывать лица.
– Плевать.
– Так и так ты не носишь свою.
– Наплевать.
– За полгода – ни разу.
– Отвянь.
– Я и то надевал.
– Ты герой. В микромикроформате. Забыл?
– Мне показалось, или ты в самом деле становишься сукой?
– Да пошел ты, ссыкло!
– Истеричка.
– Мудак.
– Психопатка.
– Ничтожество. Тряпка.
Он посмотрел на цветок, на жену и опять на цветок, на сей раз – озадаченно: Караваджо на их перебранку не отреагировал. Странно, подумал супруг.
Потом сообщил (или все же спросил?):
– Я тебя ненавижу. (?)
– А мне на тебя наплевать.
– Это мне наплевать, – буркнул он, распаляясь, но как бы с ленцой, без души. – На тебя и твои кретинизмы.
– Не забрызгай слюной лепестки, василиск недоделанный.
– Ладно. Запомни.
– Да что в тебе помнить? Давно ничего не осталось. Ты сам уже маска. Кусок негодящей резины.
Муж зевнул.
– Черт с тобой. Оставляй, если хочешь.
– Хочу.
Он швырнул ей свою.
Увернулась.
Маска шмякнулась о занавеску и, причмокнув, скатилась распоротым мячиком к плинтусу.
Жена усмехнулась.
Вот сейчас я и вправду ее ненавижу, подумал супруг, включил телефон, засек время, потом подождал, посчитал и проверил.
Не так уж и долго.
– Две минуты семнадцать.
Супруга презрительно вскинула бровь и, уткнувшись в ноутбук, промолчала.
– Две и семнадцать секунд. Столько я ненавидел.
– Негусто.
Подумал: зато весь вспотел, хоть в тазу выжимай.
– А если найдут?
– Не найдут.
– Ну а если найдут?
– Я устала бояться.
– Я тоже, – он снова зевнул. – Толькоустать – это ведь не перестать.Или ты перестала бояться?
– Все, что у нас еще есть своего, это лица.
– Зачем тогда маски?
– Чтоб уберечь наши лица от слежки – хотя б на чуть-чуть.
– Почему же тогда ты…
– Боялась. Я и сейчас их боюсь. Просто очень устала.
– Я тоже.
Пора б ей пойти на попятную, подумал мужчина, украдкой взглянув на часы.
– Если ты хочешь, порвем.
Минута шестнадцать секунд.
Добавив к ним двадцать, он твердо сказал:
– Не хочу.
– Но порвем?
– Я не знаю. Какой нам с них прок?
– Никакого.
– Только себя подставляем.
– Согласна.
– И ради чего? Ради дурацкой бравады!
– Я-то думала, ради сопротивления.
– Не носить, чтобы прятать?
– Прятать, чтобы носить. Не обязательнона голове. Можно и в голове. Разве нет?
– В голове – это можно. В ней можно носить что угодно. Не обязательно маску. Она-то тебе для чего?
Сверкнула недобро глазами:
– Чтобы совсем не утратить навыки прямохождения! Или, по-твоему, этого мало?
– Мы сделаем так, как ты хочешь.
– А ты так не хочешь?
– Хочу.
– Ты не хочешь!
– Хочу.
– Ты не хочешь.
– Я тряпка.
– Ты просто боишься.
– Боюсь.
Тридцать восемь секунд.
– Просто я идиотка.
– Это я просто трус.
– Если хочешь, порви.
– Ни за что.
– Хочешь, сама их порву?
– Если хочешь.
– Сколько раз повторять: не хочу!
– Успокойся! Мы их не порвем.
– Поклянись!
Он поклялся.
Она соскользнула со стула. Муж упал на колени и перехватил на лету, не дав расшибиться лицом о паркет.
Натолкавшись в объятьях, женщина влажно уткнулась мужчине в рубашку и зарыдала.
«А вот интересно, я ее точно люблю?» – думал он и старался припомнить на ощупь, как прежде, в былые эпохи, изъяснялась руками их исповедальная нежность.
Ночью они на износ истязали друг друга – то ли гневливой любовью, то ли брезгливым отчаянием.
Наутро супруг обнаружил жену у дымящейся раковины.
– Так будет лучше, – сказала она.
– Достаточно было порезать.
– Мне захотелось поджечь. И я подожгла, только очень воняло. Пришлось открыть кран.
– Можешь уже закрутить.
– Не могу.
– Давай я.
– Погоди. Пусть течет.
– Для чего?
– Таковы обстоятельства.
Позже она рассказала, как ее дед-профессор на старости лет обзавелся деменцией.
Это случилось на лекции: ни с того ни с сего запнулся на полуслове и стал грызть мелок. Потом снял пиджак, наслюнявил подкладку пузырчатой белью, сложил его вдвое и начал тереть, не обращая внимания на изумленные возгласы аудитории.
Постирушки прервали охранники.
Вызвали санитаров и бабку.
Из деканата его повезли к мозгоправу, а после осмотра – в больницу, где продержали профессора несколько месяцев.
– Когда он вернулся, меня к нему не подпускали…
Днем дед бывал еще ничего. По солдатской привычке вставал на рассвете, делал зарядку, пил чай с крендельком. За столом себя вел, как всегда: был неизменно опрятен и вежлив. Затем уходил в кабинет и часами читал, но сложные тексты усваивал плохо, а на простые бесился, драл в клочья страницы и знай приговаривал: «Кыш отсель, шелуха!»
К вечеру дед утомлялся, плюхался в кресло и дулся на бабку. Иногда сквернословил и порывался влепить ей пощечину. Но самые гнусные пакости отчебучивал по ночам: то запоет во всю глотку «Дубинушку», то стащит из бара коньяк, напялит пальто на пижаму и намылится в парк «покутить с сирым племенем», то достанет портняжные ножницы и раскромсает одеяло на спящей супруге. На ее возмущение: дескать, какого рожна, – дед прикладывал палец к губам и шептал: «Таковы, душенька, обстоятельства».
Раскидает все вещи из шкафа. «Зачем?» – «Таковы обстоятельства».
Поколотит посуду на кухне. «Да что ж это, как это?! Ты для чего?..» – «Тссс!.. – и талдычит свое: – Меня понуждают к тому, ангел мой, обстоятельства».
Врач советовал бабке ему не перечить, а то мало ли что!..
Темнота, консонируя с мраком сознания, навевала на деда морок роковых наваждений.
Как-то в четыре утра старушка нашла экс-профессора мирно урчащим у кухонной раковины с напиханной кипой бумаг, на которые лилась потоком вода. Обернувшись с лукавой улыбкой, дед пробормотал: «Прав был Михал Афанасьич: они не горят. Наипаче – никчемные».
– Так он «сжег» свои рукописи. Целую груду обшарпанных папок – егозавещание пытливым потомкам. «Испепелил» в костре слабоумия столь любимую маску всезнайки. В этой вот самой облупленной раковине… Приобретенная глупость хуже врожденной: с первой теряешь достоинство, со второй его даже не ищешь… Вынеси мусор, пожалуйста.
* * *К августу дом задрожал и наполнился дребезгом. Казалось, что стены сверлят с четырех сторон сразу и вдобавок на всех этажах. От адского шума ремонтных работ было впору рехнуться.
Долбеж начинался уже с полвосьмого утра и не прекращался до вечера.
Чтоб оградить Невозможку, прикупили литой куполок из стекла и подвели под него портативный компрессор.
– Это то, что я думаю?
– Думаю, да.
Опасаясь прослушки, уговорились использовать местоимения в третьем лице.
– Ну и как он?
– Пойдет. Только проблемы со сном.
– Надо же! И у нее.
Или:
– У него на работе все норм?
– Более-менее. А у нее?
– Ковыряется дни напролет в лабудени.
– Хорошо б им обоим смотаться на дачу.
– Будто она у них есть!
– Дача есть у друзей.
– А они у них есть?
– Да кто их теперь разберет. Может, кто-то и есть.
– Никого у них нет.
– Кроме ляльки.
– Точно! Кроме ребенка.
– И это немало.
– Еще как немало.
Эзопов язык выручал не всегда. Из-за хронического недосыпа женщина часто бывала не в духе, постоянно сетовала на мигрень, раздражалась по всякому поводу и распекала супруга без конспираторских иносказаний – на ты:
– Думай потише! Мешаешь заснуть.
Или:
– Сколько можно не двигаться! Лежу, словно с трупом. Как мне заснуть, когда рядом труп?
За завтраком хмуро делились:
– Во сне она стонет.
– А он – как не дышит.
* * *Однажды во время планерки муж понял, что заикается мыслями. За каждым немолвленным слогом ютились десятки стреноженных слов, готовых в мгновение ока сорвать ненавистные путы и ринуться вскачь, унестись врассыпную по вольным рискованным тропам и погубить оседлавшего их верхового. Страх невзначай сболтнуть вслух крамолу был в нем столь силен, что неделю спустя на летучку мужчина пришел с перевязанным горлом.
– Ангина? – спросил, отшатнувшись, Архипов.
Он виновато кивнул.
– Шел бы ты, парень, домой.
Он пошел. И размышлял по дороге о том, что давненько не слышал в курилке, чтобы шефа упоминали по кличке – Архивов. Кажется, даже еще пожалел, что корпоративная трусость изъяла из оборота отменное погонялово.
В вагоне метро было нечем дышать. Стоя вложенным, точно сосиска в хот-дог, между тощей мегерой с колючим мешком и хмельным бегемотом в подтяжках, он вспомнил, что сам и придумал то прозвище.
С перепугу его замутило. Он продрался к дверям и весь перегон давился блевотиной, чтоб изрыгнуть ее в урну на остановке у мраморного столба.
Ощущая противную горечь во рту и терпкую жажду, подумал: «Я тряпка. А ведь когда-то был парусом».
На улице выпил купленной в будке воды, и его опять вывернуло.
«Значит, жажде моей нужна не вода».
Тут его осенило, что ей нужна правда. Ибо тошнило его от всего остального.
Добравшись до скверика в паре кварталов от дома, присел на скамейку и стал слушать птиц.
Вот бы так и сидеть, и дышать. Полудремать, полудумать, полусуществовать. Не трястись, не вздрагивать и не замирать. Не ужиматься. Распрямиться и сметь. Дерзать, ошибаться, кричать. Любить, ненавидеть, мечтать. Плыть, смаковать, безмятежиться…
Снова глотнул из бутылки. Вода на сей раз была честной и вкусной, как правда.
Я сижу здесь, и мне в кои веки не стыдно, думал он, наслаждаясь водой, тишиной и почти-одиночеством.
От бестревожной недвижности в голове прояснилось, и он вывел формулу: правда есть поиски собственной совести. Ложь – лишь иллюзия того, что вы правду уже обрели и что она вам тесна. Как-то так…
Мысль ему очень понравилась, и он разрешил себе выстлать ее продолжение.
Правде нельзя жить без совести. Точка. Дальше, о совести, – с красной строки.
Возможно, темница души?
Скорее, увивший темницу терновник. Ни прислониться, ни встать в полный рост: гнетет, донимает и колет по всякому поводу. Совести лишь бы придраться. Неудивительно, что миллиарды людей предпочитают ей веру: в вере есть иерархия, а значит, поблажка бессовестности.Жертвуем малым во имя великого – запатентованный единобожием кунштюк. Как бы я плохо ни поступал с точки зрения совести, я делаю это во благо великого таинства веры. Вот они, плутни увертливых душ. На таких стратагемах и зиждется преуспеяние клириков.



