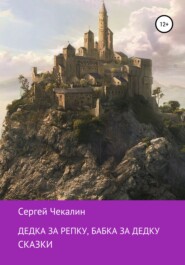 Полная версия
Полная версияДедка за репку, бабка за дедку…
С такой вестью о пропаже мальчика обратились к пограничникам. Те быстро снарядили в сторону посёлка поисковые пограничные катера, на которых установлены мощные прожекторы. Но и это ничем не помогло, по всей ближней разумной по расстоянию окрестности ничего не обнаружили. К утру обещали вызвать пограничные вертолёты, сделать осмотр местности сверху.
***
А случилось самое простое. Петька ждал-пождал своих друзей с веслом, забрался в лодку, прилёг на скамеечку, да и заснул; набегался за день-то. Лодка была отвязана, поэтому потихоньку её и отнесло от берега. А там и небольшой ветерок с берега отправил лёгкое судёнышко ещё дальше от посёлка. Петька спал так крепко, что и не чувствовал перемещения лодки и не слышал криков людей с берега и, конечно, не видел прожекторов пограничников с берега и катеров, не слышал и громких сигнальных звуков этих катеров.
***
– Смотри-смотри, Борис, вон там лодка движется. Я прямо такого никогда не видел! – Обратился к своему напарнику-вертолётчику штурман Сергей. – Гляди-ка, почти как моторка по скорости. И никакого мотора нет, лодка-то обычная, вёсельная.
Этот вертолёт был поисковым. Рано утром его направили на поиски лодки, и вот только сейчас, через полтора часа, они смогли увидеть то, что искали. За это время вертолёт галсами, примерно параллельно берегу, просматривал море. И уже довольно далеко пришлось удалиться от берега. Но то ли это было? Ведь искали-то они не моторку, а обычную лодку. Да и странно, что так далеко уплыла эта лодка. Ветра такого не было, чтобы её оттащить. Но в лодке определённо находился человек! И без вёсел.
– Подойди-ка, Борис, поближе, я посмотрю, что там творится!
Вертолёт развернулся в сторону лодки и завис немного в стороне от неё. Пассажир лодки их уже давно увидел и махал рукой.
– Сообщи на берег, что нашли, что мальчик жив-здоров, что лодка движется к берегу, пусть встречают, – попросил Борис Сергея.
Сергей быстро передал, что было велено. Сказал, что лодка сама движется к берегу. С берега приказали сопровождать лодку, а навстречу ей выслали пограничный катер.
– Борис, уму непостижимо! Смотри, лодку-то волокут дельфины! Эх, жаль, фотоаппарата нет, засняли бы для истории!
Как только показался катер, лодка сбавила ход и потом совсем остановилась. К ней подошёл катер, матрос спрыгнул в лодку, передал мальчика другим, а лодку подцепил тросом, для буксировки к берегу.
***
Вот так и закончилась эта история. Что интересно, но ни Борису, ни Сергею, ни Петьке Скворцову, мальчику-путешественнику, никто не верил. Единственное, на что первое время обратили внимание, – это камешки и ракушки на дне лодки. Но обратили внимание даже и не взрослые, а ребятишки. Но и они, эти камешки и ракушки, потом растворились по карманам досужих ребятишек.
***
Через много лет, в девятом классе, Петька написал сочинение на свободную тему. Он написал о дельфинах. Вставил в него как раз этот случай, что помнилось ему с того времени, и про лодку, в которой он заснул, про то, как она ушла от берега, как встретился в море с дельфинами, о том, что они набросали ему в лодку камешки и ракушки, как дельфины устроили хоровод вокруг лодки, как они тащили лодку к берегу, как его спасали пограничники. И свои соображения про всю эту историю. Получил за него пятёрку, но учительница сказала при этом: "Ну ты и фантазёр! Вот за это я и поставила пятёрку! Хотя там есть у тебя одна ошибочка – запятую не туда поставил. Вдруг, фантастом станешь. Так вот я авансом тебе и ставлю, потому что очень ты всё складно излагаешь! Прямо зачитаешься! Я пошлю его, пожалуй, на школьный областной конкурс".
Поди туда, не зная зачем
В этой сказке приводится свободное
переложение сказочной Книги пророка Ионы.
Почитайте такую же практически сказку,
как и оригинал.
– Садитесь-ка, дети, я вам сказку расскажу.
– А про кого?
– Про Йону.
– Про Йону-дурачка?
– Ну, про дурачка, не про дурачка, а он себе на уме был…
– А это было давно?
– Да, уж давненько. Ну, слухайте. Тока тихо сидите! Жил себе, поживал, в давние времена, лет, почитай, тыщи три назад, а то и побольше, в некотором царстве, в некотором государстве один человек по прозванью Йона, а по отчеству – Амафьевич. Но проще – Йона, да и всё. Тогда и отечеств этих ещё не было. Называли так: Йона, сын Амафея. Как вот, к примеру, отец ваш, Андрей Степанович. У них бы его называли Андрей, сын Степана, или Андрей Степанов.
– А далёко это от нас было?
– Нет, недалече, на земле-матушке нашей. Ну так вот, жил он жил, не тужил, а тут, как-то, и говорит ему бог-то, что, мол, сходил ба ты, что ля, в город Нинею, к злым людям, которые в нём живут, да и сказал ба им, что накажу я их за ихние грехи и всех погублю за это. Тогда тоже города были, а Нинея-то – большой город, в три дни не обойдёшь.
– Ба, а бог-то это кто? Царь?
– Царь – это царь. А этот над всеми царями царь-государь, и всеми он управляет, над всеми он хозяин. Сила у его агромадная. Саввой Офом его зовут. Ну вот и говорит это Савва Офин Йоне, иди, мол, в Нинею и сказывай им всё, что я тебе сказал, что погублю я их скоро.
Испужался Йона, да делать нечего, пошёл он в город Нинею. Долго ли шёл, коротко ли, а пришёл он к месту, где дорога на три пути разбегается. А на развилке этой как раз и камень лежит.
– Это как на картинке в сказке про богатыря?
– Пожалуй, что и так. Только написано было на этом камне другое: «Кто налево поёдёт, тот куда ему надо придёт. Кто прямо пойдёт, тот смерть найдёт. Кто направо пойдёт, тот с чудой-юдой повстречается». Подумал Йона: «Не пойду я в Нинею, побьют меня там злые люди. И прямо не пойду, пожить ещё хочется. А пойду-ка я направо, посмотрю, что там за чудо-юдо такое». И пошёл он направо-то, пришёл в город, который назывался Иопа.
– А это тоже большой город, ба?
– Вот чего не знаю, сказать не могу. А город этот находился на берегу моря-окияна, и корабли из него по всему белу свету расплывались. Тут Йона и подумал: «А что если я уплыву в город Фарцу, не найдёт меня тогда Савва Офин». Сел Йона на корабль, и поплыл корабль в город Фарцу.
Но Савва Офин всё видит, всё знает. И решил он наказать Йону за то, что он его не послушался. Стал Савва Офин дуть на море изо всех сил, и поднялась на море-окияне невиданная буря.
– Ба, а корабли тогда с парусами были или с трубами?
– Тогда ещё с парусами, а то и с гребцами, с вёслами. Это сейчас они самоходные. Ну, слухайте дальше. Так вот, поднялась на окияне-море сильная буря, паруса изорвались, мачты поломались, вот-вот корабль потонет. Ужаснулись корабельщики такому несчастью, стали корабль спасать, стали груз из него в воду выбрасывать. Но ничего не помогает. Тогда стали они все своим богам молиться, стали просить, чтобы они бурю утихомирили. Но и это не получается, наверно, Савва Офин посильнее их оказался.
– Ба, а много тогда богов было?
– Тогда много, не то, что сейчас. Почитай, у каждого свой бог был. Ну, да ладно! Буря-то не утихает, не долго кораблю жить осталось. А Йона внизу в корабле-то спит-посыпохивает, ничего о буре не знает, не ведает. Прознали об этом корабельщики, да и к нему, ну-ка, говорят, молись своему богу, тонет, мол, наш корабль. Проси ты теперь своего бога, чтобы бурю остановил. Догадался Йон, отчего буря-то, что не получилось у него спрятаться от Саввы Офина, и сказал он Савве Офину:
– Каюсь я, господи, в грехе своём! Прости меня, глупого, неразумного.
А корабельщиков попросил бросить его в море, за то, что из-за него всё это получилось, что из-за него эти страдания и убытки. Только бросили корабельщики Йону в воду, как буря сразу и утихла. А Йона в море плавает, смерти своей дожидается, горюет, что не по той дорожке пошёл, не надо было антиресоваться каким-то чудой-юдой. Только об этом он подумал, как, откуда ни возьмись, чуда-юда и приплывает. Это его Савва Офин послал. Чуда-юда был агромадный кит. Проглотил он Йону. Сидит Йона у кита в желудке, три дня и три ночи просидел, проплакал. Потом стал просить Савву Офина, чтобы отпустил он его на волю, что пойдёт он в Нинею, что сделает всё, о чём просил его господь.
Сжалился Савва Офин, приказал он киту подплыть поближе к берегу и выпустить Йону на волю. Так и случилось.
– Ба, а этот кит, который в «Коньке-Горбунке»?
– Наверно он и был, один он был такой в море-окияне. Ну вот, пошёл Йона в город Нинею, стал им слова Саввы Офина передавать, что, мол, через сорок дней и ночей погибнут они все за их грехи тяжкие, за свою жизнь злобную. Рассказал им про своё путешествие, по камень на дороге, как он был на корабле, как поднялась буря, как он оказался потом в желудке у агромадного кита, как кит его выпустил после молитвы к господу. Поверили Йоне жители Ниневии, стали каяться в своих грехах, стали готовиться к обещанной смерти. Да и как не поверить-то, ведь от всего сердца рассказывает человек, ведь клянётся всем, что ни на есть, что говорит правду. Куда уж больше-то?
Увидел Савва Офин, что жители города Ниневии стали добрыми, перестали грешить, поняли, что они не так всё делали, как полагается, и решил он не губить их, не трогать этот город.
Прошли уже сорок дней и ночей. Видит Йона, что не разрушает Савва Офин город, что все живы-здоровы, и сильно от этого опечалился:
– Вот, меня теперь сочтут за лжеца, обманул я их своими словами. Теперь и тому, что я рассказал о себе, не будут верить. Уйду я из города и поселюсь за ним.
Так он и сделал. Посадил за городом сад, а в саду посадил дерево, ветвистое и зелёное. Красивое было то дерево!
– А дерево это было дуб, бабушка?
– Нет, это был не дуб, а другое, такое же красивое, большое и зелёное. Сидит Йона в саду, на дерево своё любуется, радуется жизни, на Савву Офина обижается за то, что ввёл он его в обман, город не разрушил, как говорил, за то, что опозорил его перед жителями города.
А Савва Офин знает его мысли. И погубил он Йонино дерево в один день и час. Засохло оно. Расстроился Йона, опечалился, так расстроился, что стал он у Саввы Офина смерти просить, понял, что дерево погубил именно он. А Савва Офин и говорит ему:
– Что же ты, Йона, о дереве одном печалишься, даже смерти себе просишь. А что же ты тогда на меня злобствуешь, что я город не разрушил, что народ не погубил? Это всего-навсего дерево, а там люди, сто двадцать тыщ человек, да и скотины сколько разной! Что же ты об этом не подумал-то? Скока, говорит, злобы в тебе, дурень эдакий, да и разума-то совсем нет из-за этой злобы. Не так ты жить должон. Вот и задумайся теперь, как ты будешь жить дальше.
Вот так всё и произошло.
– А чем сказка-то кончилась, ба?
– А вот этим она и кончилась. А теперь – спать! Утро вечера мудренее.
Два брата
И сказал Господь Моисею, говоря: войди,
скажи фараону, царю Египетскому, чтобы
он отпустил сынов Израилевых из земли своей.
Исход (6:10-11)
В некотором царстве, в некотором государстве, словом, почти за углом в этом городе, почти рядом в другом городе, а лучше сказать – в деревне, по названию Дубки, прямо почти по соседству, в одном и том же доме, жили-поживали некоторые очень даже близкие родственники: отец Савва и два его сына, Глеб да Борис. Мать их давно умерла, оставив на руках Саввы двух малолетних сыновей, десяти и двенадцати лет. У сыновей к этому времени, о котором сейчас говорится, были уже свои семьи со своими детьми, которые Савве, конечно, приходились тоже не чужими, а, словом сказать, даже внучками и внуками. Самый любимый из сыновей у Саввы был Глеб, старшенький из них. Почему? А вот это неизвестно, любимый и всё. Может быть, даже и сам Савва на такой вопрос не смог бы ответить, даже самому себе. Борис крепко обижался на отца за такой выбор и прочно и постоянно не любил своего брата Глеба с его чадами и домочадцами, даже, можно сказать, ненавидел, но, следует сказать, по-родственному ненавидел. Так и жили они одной семьёй, потому что деться им было некуда. Земля-то одна, и раствориться на ней весьма непросто, особенно – пока зависим от кого-то другого, от отца, например, да и от общего хозяйства.
Потом Савва решил выделить сыновей из общего хозяйства, о чём они и сами его давно уже просили. Выделил он каждому из сыновей поровну от всего, что у них в семье имелось, построили два одинаковых кирпичных дома каждому из сыновей: Борису – в деревне Березёнки, что на восток по дороге из Дубков, а Глебу – в деревне Ольховка, что на запад по дороге из Дубков, которая проходит через сравнительно широкую речку Невесёлку. Плодитесь, говорит, и размножайтесь, умножайте своё имущество.
У Бориса, младшего-то, сразу как-то занялось всё хорошо: другие детишки пошли один за другим, урожаи со своего поля собирал хорошие. Зерновые, бывало, что и сам-5, а то и сам-7, а то и побольше, в урожайные-то годы. Скотинка водилась разная и приумножалась, так что своих рук уже и не хватало, чтобы со всем управиться. Жди, пока мелкота-то подрастёт. Ведь человеческая ребятня не так скоро подрастает, как, например, скотская.
А вот у Глеба как-то всё занялось не очень складно. С детишками-то он, положим, не отстал от Бориса, а с хозяйством пошли некоторые проблемы, которые не позволяли его семье жить так же прочно в этой Ольховке, хотя бы и в кирпичном доме, как семье его брата в Березёнках в таком же точно кирпичном доме.
Савва очень печалился о житье Глеба, но особенно помочь ничем уже не мог: при разделе имущества он почти всё раздал сыновьям, а себе оставил только что старый дом, да и ещё по-малости кое-что, на дожитие. Помочь он мог только дельным и умным советом на основе своего богатого жизненного опыта.
Через некоторое время Глеб обратился к отцу, помоги, мол, чем сможешь. Но чем Савва мог помочь? Пошёл он к сыну Борису за помощью, поделись, мол, по-братски, с братом-то. Но Борис, как человек хозяйственный, предложил такую помощь: чтобы Глеб со своей семьёй и остатками хозяйства нанялся к нему в дом на десять лет, что, мол, заработают, то их и будет. Кормить, сказал, я буду их всех хорошо. Будут хорошо работать, то будет у них постоянно хлеб, молоко и мясо. Голодными не останутся. А через десять лет он выделит Глебу часть хозяйства, что они заработают.
Подумали, подумали Савва с Глебом, крепко подумали, да и решили: пошла семья Глеба к Борису в указанную договорную как бы кабалу. Всё это, их договор, они оформили у нотариуса, у каждого на руках такая бумажка имелась.
Так прошло пять лет. Борис своё слово держал крепко: кормил-поил хорошо, на столе у семьи Глеба было то же, что и у семьи Бориса. Да они, впрочем, стол-то и не делили на «мой-твой», вместе и питались, всей большой семьёй. Словом, хлебали из одного котла.
Хозяйство Бориса приумножилось, да и семья Глеба оказалась работящей. Но сам Глеб был очень недоволен таким положением: Борис богатеет его трудами, как он думает, а сам Глеб ничего не имеет, кроме крыши, одежды да кормёжки, да того ещё кирпичного дома в Ольховке. Хотя, правда, сказать к слову, как говорилось и в народе их деревенском, кормёжка и одежда в семье Глеба от Борисовой семьи ничем не отличались.
И говорит Глеб Борису:
– Брат мой, отпусти ты меня в мою Ольховку, снова хочу хозяйствовать один. Выдели мне что-то из своего хозяйства, всё, что мы за это время честно заработали.
На что брат дал ему полный отказ, не согласился отпустить семью своего брата. Напомнил ему о прошлом договоре. Тогда снова пошёл Глеб к отцу Савве, пожаловаться. Вместе они стали уговаривать Бориса отпустить Глеба по его просьбе. Но Борис твёрдо стоял на своём. Нет, мол, и всё, такого уговора не было, чтобы отпускать через пять лет, да ещё и с добром. "Мы так и будем по нашему договору жить, как подписали, так и следует нам делать, – сказал Борис Глебу, – ведь я, когда договаривались, что-то имел в виду про своё и твоё хозяйство. А сейчас ты хочешь всё это одним махом разрушить. Мы бы через десять лет расстались бы на равных, всё поделили бы поровну".
Возможно, что после этих слов Глеб и успокоился бы, но Савву это не устроило. Подумал Савва, крепко подумал и придумал. Принародно пригрозил Борису, при всей многочисленной родне, пожалеешь, мол, что противишься нашей просьбе, поэтому дальше ты будешь жить в темноте, как египтяне при казни египетской.
Сказал и сделал. Как-то ночью устроил он руками Глеба пожар на генераторной станции Бориса. Такой пожар, что станцию пришлось покупать новую, помещение для неё строить новое, да ещё и устанавливать. Расходы получились большие. Но Борис, предполагая причину и виновника пожара, не стал позорить родственников, да и сам не стал позориться перед деревней.
Снова Савва обратился к Борису:
– Ну что, – говорит, – отпустишь теперь-то Глеба?
– Нет, – отвечает Борис, – не отпущу, теперь-то тем более не отпущу, за такой разор, что вы мне устроили. Впрочем, вы его не только мне, вы и себе-то его устроили. Даже и не ты себе, отец, а Глебу. Как же вы этого не понимаете?
– Пожалеешь ты об этом, не то ещё будет, – пригрозил отец, опять-таки принародно, – вряд ли ты в этом году соберёшь хороший урожай, и сам-1 у тебя не получится.
Дал Савва Глебу какого-то порошка и говорит ему:
– Разведи порошок в воде и опрыскай поля Бориса. Всего-то надо совсем мало, но всё и засохнет.
Так Глеб и сделал. Развёл порошок, опрыскал поля. Через две недели на полях Бориса были лишь чёрные стебельки от всех растений. А на соседних полях всё росло как и положено, зелено и густо.
Опечалился, конечно, Борис. Он опять предполагал, откуда такая напасть, но снова не захотел, возможно, что и напрасно, опорочить в народе отца и брата. Хоть и грозился отец таким разорением, чего не бывает по-родственному-то, но, ведь, не пойман – не вор. А на одних подозрениях дело не построишь. Ведь бывает же при спорах проскочит слово-паразит – "убью". Но это же не значит, что так это и случится.
И снова Савва налетел на Бориса. Отпусти, мол, Глеба по-доброму. А не отпустишь, как я прошу, пеняй снова на себя, поморю весь твой скот. Но Борис снова отказался. Да уже и причины тому были веские: надо же было, после таких потерь, восстанавливать хозяйство, своей-то семьёй теперь и не справиться. Так и сказал об этом своему отцу, добавив при этом, что по его с братом делам и потери в их совместном хозяйстве. Что, мол, теперь-то они и его должниками, как бы, стали.
Разозлился Савва на Бориса. Приготовил отраву для скота, а Глеб эту отраву и подсыпал в кормушки. За одну ночь и управился, не разбирая, что при возможном отделении из хозяйства Бориса ему могли бы достаться и эти животные. Остались в живых только две овечки да три лошади, что были в ночном.
Сильно опечалился Борис. Решил, что лучше уж пусть Глеб возвратится в Ольховку. Да и дать-то ему уже было нечего, всё погибло. Когда Савва пришёл к сыну с той же просьбой, то он не получил отказа. Даже Борис разрешил забрать с собой одну овечку, на разживку, да и лошадку.
Но Глеб, парень не промах, забрал всех оставшихся овечек, да и отправился в свой дом, в Ольховку. Борис же, видя такую несправедливость, снарядил в погоню на лошадях двух своих самых дюжих сыновей, Ваську и Петьку. Но предусмотрительный Савва подпилил стойки мостика, что через речку Невесёлку, так что грохнулись с этого мостика оба Саввиных внука. Один из них, который Васька, насмерть разбился, а другой, который Петька, только покалечился. Но покалечился настолько сильно, что на всю оставшуюся жизнь сделался инвалидом. Лошадям тоже досталось, переломали себе ноги.
Такая вот история, с таким вот окончанием. Скажете, что не могло быть такого? Ничего подобного, могло. И раньше такое, да ещё и похлеще, случалось. Почитайте сказочную Книгу Исход, что опубликована в Ветхом Завете, Книгу ужасов, с седьмой по одиннадцатую главы. Что там Савва со своими проделками! Так, цветочки только.
Кого люблю, тому…
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё
на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле:
человек непорочный, справедливый, богобоязненный
и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу,
и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
Иов. 1:8,9.
Некоторым царством, некоторым государством управлял некий царь. Звали за глаза его Кривохромом, а в глаза, конечно: Твоё величество да Ваше величество, Царь-батюшка, Отец родной, Государь и другими похожими обращениями. А заглазная кличка была справедливой, поскольку царь этот был и хромой на какую-то ногу, и кривой на левый глаз. И всё это из-за того, что он очень любил воевать, да и сам был всегда в первых рядах: где гуще схватка – он там и есть. Но соседних государств у него не было, поскольку он управлял всего одним государством, которое называлось… Да никак оно и не называлось, государство – и всё. Просто он очень любил войны, а народов разных в его государстве у него было навалом, чуть ли не сотня разных народов, если не больше, но он был очень искусным провокатором и подстрекателем. Он так строил свои козни между разными народами, что они доходили до военных баталий, чему как раз и был рад этот царь, по настоящему его имени – Долдон. В войнах этих он выбирал для помощи одну из сторон и помогал ей до победного конца. То день удлиннит для ускорения победы, то подскажет, откуда лучше напасть на врага, то камнями закидает войско неприятеля.
И ещё он любил, чтобы все народы его любили, чтобы они мысленно и наяву кланялись ему в пояс и искренне благодарили непрестанно за его заботу о них. Впрочем, новости тут нет никакой – все цари тем и живут, и до сего времени.
Служил у этого царя на побегушках по разным поручениям один приближённый по прозвищу Кубыть. При рождении он был назван по-другому, а это прозвище прилепилось к нему за такую же его присказку ко всякому разговору. Этот Кубыть разъезжал по всему царскому государству, то есть по всем народам, и докладывал царю о состоянии дел в государстве. Кто как себя ведёт, кто как любит царя, для кого царь место пустое и звать его никак. Вот однажды, на таком докладе, царь и спрашивает Кубытя:
– А что, Кубыть, как там поживает мой сродственник Лавр? Он, я знаю, очень меня любит, всё время думает обо мне, заботится. Вот, к примеру, каждую неделю присылает на мой стол много всякой еды. Может быть, надо ему что-нибудь? Так я помогу. А то я слышал, как-то, такую о нём молву, что мол, кто-то в каком-то народе беден, как индюшка Лавра. Ты не слыхал такую? Может, это и не про него вовсе? Лавров-то у нас в государстве много разных.
– Слыхал, Твоё величество. Это именно про твоего того самого Лавра и есть. Сродственника твоего. Только это как в насмешку. Не бедный этот Лавр. Это люди со злости такое придумали.
– Что значит со злости. Ты сам-то думай, о чём говоришь с царём! Они что, и против меня такое придумывают? Так разыщи и накажи как следует! Это как раз по твоей части. А то, может быть, и правду говорят люди о Лавре, может, не в достатке он живёт? Ты спроси его в следующий раз.
– Ну, Государь ты мой ясновельможный, он, кубыть, ни в чём не нуждается, всё у него есть. Но не так уж он тебя, кубыть, любит. Не совсем даром он это делает. Тут, кубыть, дело не простое. Думаю, что он просто завален добром и твоим добрым отношением к тебе. Так что же ему не любить тебя? За такую доброту и достаток. Вот если это всё у него отобрать, то будет ли он также тебя любить, то в этом, кубыть, можно и посомневаться. Есть у меня на этот счёт некоторое подозрение.
Царь аж вздёрнулся от таких Кубытьевых мыслей. Как так, этот отщепенец любит царя только за царское добро и доброе царское отношение? Это же никуда не годится!
– Нет, Кубыть, не думаю я так, не может быть такого! Я бы это доподлинно знал! Ты, давай-ка, разузнай всё досконально и доложи мне по порядку! Сроку тебе на это – три недели.
– А не надо и узнавать, время только терять. Уж поверь мне на слово. А вот ты, Царь-батюшка, лиши его этих благ, и сразу увидишь, безо всяких лишних ожиданий, как он тебя за это полюбит!
– Ну, что ж, давай-ка поспорим, что он так и будет меня любить, как любит, если останется без добра. Я повелеваю так: если ты проиграешь, то я велю отрубить тебе голову, а если я проиграю, то велю не рубить тебе голову.
Куда было деваться Кубытю от этих слов, сам на то и напоролся, своими руками смерть себе приготовил. Но осталось надеяться только на свои мысли, что Лавр будет хулить царя. Он так постарается с Лавром сделать, что думки Лавра о царе перевернутся на другой бок. И отправился он с дружиной на испытание Лавра.
Теперь пришла пора рассказать и про этого Лавра.
Его семья жила где-то недалеко от столицы этого царского государства. Это была самая богатая семья в государстве. Одного скота рогатого было больше десяти тысяч штук, говорили даже – чуть ли не двенадцать тысяч, да ещё и мелкота разная в шерсти и перьях неисчислимая бегала по хозяйскому двору. Всё это богатство досталось Лавру по наследству, а откуда всё пришло, особенно никто и не знает. Говорят, что царь за какие-то заслуги наградил отца или деда Лавра всем этим богатством и землёй, да ещё выдал за этого самого Лавра свою дальнюю родственницу.



