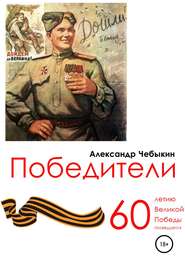 Полная версия
Полная версияПобедители
Только перед Пасхой на Вербное Воскресенье мужики пришли к Федуле, гоготали. Языки свои показывали – у кого шире и длиннее. Рассказывали, как бабы молоком и брагой через воронку отпаивали.
Гулящая
Истифор женился второй раз, когда ему было за пятьдесят. Первый раз женился поздно, жена народила троих и при родах скончалась. Дети малы, на троих никто не шел. Взял из соседней деревни молодую бабенку, тридцатилетнюю Анну, баскую, широкобедрую, высокую, с русой толстой косой, карими маслянистыми глазами, бровастую. Замуж ее никто не брал, мужики боялись. Годов с шестнадцати с мужиками любилась. Если попадался мужичок, то до утра не выпускала. Второй раз на любовь к ней никто не напрашивался, побаивались, что за бессилие носом натычет в интересное место. Анне надоело заманивать мужиков, да время пришло семью заводить.
Первое время жили сносно. Вымотав Истифора ночью, она утром, как ничего не бывало, носилась по огороду, успевала детей обугодить, в колхозе отработать и в город съездить за обновками себе и детям. Истифор обычно отсыпался до обеда, а после обеда сидел на завалинке – отдыхал. Каждый год Анна рожала ему по ребенку, и так пять лет. Потом ее как подменили, Анна стала охотиться за мужиками, как рысь. Мужики стали побаиваться выходить по одному в поле. Вдруг встретишь Анну, а у него силенок маловато – можно опозориться.
Анна зачастила на хутор к Ваньке Паранину – мужику лет сорока, рослому, мускулистому, голубоглазому, с курчавой бородкой. Жена его лет десять тяжело болела по-женскому, последние годы не вставала, детей не было. Иван сгубил жену смолоду. Природа над ним насмеялась. Пуговицы на ширинке отлетали каждый день. Солдатский котелок с водой держал на весу. Анна после посещения Ивана с неделю на работу не ходила, управлялась дома, отлеживалась долго по утрам. Ходила маленькими шажками, широко расставив ноги. Истифор ничего не говорил, даже радовался, что она не мучает его.
Весной в соседней деревне появился примак у тетки Василисы, Иван Узбяк – здоровенный мужик, ростом более сажа; Анна повадилась бегать туда. Прибегала домой всегда веселая. Вечером вся деревня слышала, как она напевала песни про любовь, чаще всех «Рябинушку». Мужики деревенские возмутились: «Не допустим, чтобы бегала в соседнюю деревню». Да и Ваньке Паранину плохо стало, некому стало помочь по хозяйству управляться, да и жену пообиходить. Решили: «За свой позор и предательство Ивана наказать Анну». Иван пригласил Анну на Троицу в гости. В середине пира подошли мужики, с которыми у нее было дело и над которыми она надсмехалась. Анна пришла разодетая, как цыганка: в трех юбках, вышитой льняной кофте, ярком полушалке, новых голубых калошах. Подвыпив, хохотала, подзуживала над мужиками: «Вам только с кошками спать, да боюсь, поцарапают». Мужиков заело. Они задрали на Анне юбки, связали вместе с руками над головой, пустили по дороге к деревне и гнали по улице, шлепая по голым ягодицам новыми калошами. От мала до велика – все высыпали на улицу. Сбегали на луг, оповестили игрище. Народ стоял стеной по обеим сторонам дороги. Кто-то бросил клич: «Домового у Ваньки Паранина поймали». Истифору сообщили: «Бабу твою по улице с голым задом ведут». Тут у Истифора вскипело. Схватил нагайку и гнал Анну до дома. Она взмолилась: «Истифор, не бей более».
Две недели Анна лежала на животе, пока не зажили рубцы на ягодицах. После этого никто в деревне ее не видел далее своей усадьбы. Не выходила и к себе никого не привечала. Мужики помалкивали. Бабы посудачили и утихли.
Черепанов Лог
В деревне он появился неожиданно. Впрягшись в маленькую тележку, нагруженную гончарным кругом, инструмент домашним скарбом, глиняными корчагами, кувшинами, кринками, кружками, тащил ее по улице. Седые волосы, подстриженные под кружок, слиплись, пот заливал глаза и капли стекал с крупного носа, ноги дрожали от усталости, холщовая рубаха прилипла к спине. Мужик остановился посреди деревни, к возку сбежались бабы. Молодухи пробовали разговорить молчаливого бородача, но он только брал в руки корчажку или латочку, стучал по ней ногтем и, приближая к покупательницам, давал послушать и насладиться звонким, веселым звуком называл цену. После обеда ходил по косогорам, искал работную глину. На горе в лесу нашел мягкую, тягучую, но было много примеси меди, а на «Нижней Гари» были прослойки серяка. Прошла неделя. Мужики приглашали переночевать в дом, но он отказывался. Стянув оглобли телеги, поднял их вверх, посредине упер жердью, набросил полог, и шалаш готов. В баню ходил с удовольствием, любил попариться. Вечерами на костерке варил похлебку. Продавал посуду и за деньги и менял на продукты: молоко, сметану, картошку, капусту, морковь, репу. Через неделю за деревней, у ручья, впадающего в Ольховку, на склоне оврага, у оползня, нашел ту самую податливую, маслянистую, липучую красную глину. В первую очередь срубил в паз баньку, затем невеликую избушку. Соорудил навес и покрыл соломой. У ручья сбил печь для обжига и начал работать. Никто не знал, откуда он родом, с какой стороны пришел, даже имени его не знали. Прозвали «Черепан», может, потому, что первые дни печь плохо обжигала и гора разбитых черепков лежала на взгорке. Бабы просили не бить неудавшуюся посуду, а отдавать им – в хозяйстве пригодится, на что он отвечал: «Не хочу своего позора в потомках». Шли разговоры, что он участвовал в Мотовилихинском восстании в 1905 году и оборонял «Вышку». Мужики видели в бане исполосованную нагайками спину. Приезжал волостной писарь узнать, кто он и откуда, говорил, что у него «волчий билет». По такой бумаге он не мог нигде устроиться на работу, кроме занятий сельским хозяйством.
Постепенно дело у Черепана наладилось, по воскресеньям он таскал свою телегу с посудой на ярмарки или дальних деревень и заказывали ему поделки. Время шло. Черепан мало общался с деревенскими, жил одиноко. Ребят привечал, когда они прибегали к нему поиграть черепками, даже дарил им глиняные свистульки, раскрашенных голубей и снегирей. Пришла Февральская революция, за ней и Октябрьская. Деревенские видели, как к Черепану приходили нездешние мужики. Говорили, пермские. Зачем навещали, никто не знал, но дело свое Черепан не бросал. Печь для обжига дымилась каждый день.
Начался 1918 год. После Пермской катастрофы колчаковцы заполнили весь край, бесчинствовали. Расстреливали и пороли виноватых и безвинных. Особо зверствовали при отступлении. В одну из ночей отряд беляков, сотни полторы, прискакал в деревню. Остановились у Прони. На другую ночь отряд покидал деревню. Или по науськиванию Прони, или по доносу три казака подъехали к хутору Черепана, постреляли из винтовок по окнам и запалили соломенную крышу, двор, баню, домик. Пламя охватило мгновенно и огромным огненным языком взмыло вверх. Черепан проснулся от выстрелов и треска горящего подворья. Выскочил в одном нижнем белье. Забежал во двор, вытащил гончарный круг, бросился под полыхающий навес за тележкой, но крыша рухнула. Черепан, раздвигая горящие жерди и солому, выбрался из огня. Одежда горела, и он факелом побежал к ручью, но не добежал – упал под ивой. В деревне увидели зарево, ударили в набат, несколько человек спешили к хутору. Когда добрались, тушить уже было нечего. Среди догоравших головешек одиноко стояла задымленная печь. Обгоревшего Черепана нашли под ивой у ручья. Стали снимать остатки пригоревшей нижней рубашки. Черепан еле-еле проговорил: «Не надо, больно сильно, все тело жгет. Мелентием меня звали, помяните, в Пермь дочери Устинье передайте…». И замолк. Хоронить было некому. В деревне свирепствовал тиф. На гроб досок не нашлось – все сгорело. Бабка Матрена Осиха и Гришка Кривой притащили столешницу и положили на нее Мелентия. Обмыли. Одели в чистые подштанники и нательную рубаху. Прочитали наспех «Канун» и опустили в яму под сосной, откуда Черепан брал глину. Сверху накрыли плетеным коробом и кое-как засыпали землей. Могила быстро заросла березняком. Овраг с тех пор называют Черепанов Лог.
Добрые дела человека не забываются – остаются в памяти людской.
Хлеб и мед
В 30-е годы родители мои никак не хотели вступать в колхоз. Больше всего упирался отец. Самым тяжким для него было отвести на общий двор своего коня Рыжко. Деревня моя состояла из тридцати двух домов: Верхних и Нижних Чебык; двадцать два дома в Верхних Чебыках и десять домов в Нижних. В Верхних Чебыках жили все Чебыкины и все исходили из одного корня, а в Нижних были две фамилии: Пироговы и Худяковы. Из всех Чебыкиных только мой дед был безлошадным, поэтому за то, чтобы вспахать свой клин, а осенью свозить снопы на гумно, дети его по очереди каждый год уходили в работники – «за лошадь». Отец мой был призван на действительную в 1912 году, а вернулся в 1921 году. Или за храбрость, или за сноровку, был награжден серебряными часами. По прибытии домой на эти часы и шинель выменял лошадь. Отца можно было понять: всю юность проработал в батраках за лошадь, а тут своя родная и кому-то ее отдавать. Поэтому и не вступал в колхоз. А в деревне вся родня заявила: «Раз не колхозник, то не ходи по колхозной земле и не гоняй корову на общий выпас». В результате лишились земли, а лошадь забрали за налоги. И кочевали мои родители по соседним деревням с кучей малышей и коровой. Одну зиму, помню, отец работал на лесоповале в деревне Пашицы, годиков пять мне тогда было. Давали отцу буханку хлеба на день, а всех нас было шестеро и хлеб ели впроголодь. Мы с братом Семеном лазили по сеновалу и обрывали шишки от клевера, а мать, чуть их примучив, пекла нам лепешки, и какие они были вкусные, самое главное – пахли медом.
В 1938 году вернулись обратно в свой дом. Отец пошел работать на Железную дорогу, стал получать около ста рублей в месяц, по отношению к колхозникам мы стали более обеспеченными. Шел мне тогда восьмой год. В теплый августовский день мама отправила меня с туеском за медом в деревню Пашицы. Бабушка моя Федосия уже несколько недель болела воспалением легких. Фельдшер посоветовал подкормить ее медом. Тропинка знакомая. Нашел тетку Марию, у которой были пчелы. Узнала меня: «Да это Шура, Татьянин сын». Взвесила на безмене два фунта меда, посадила меня за стол и стала потчевать. Налила в деревянную чашку свежего меда, собранного пчелами с косогоров и лесных полян. Отрезала большой кусок ржаного хлеба от каравая, выпеченного в русской печи из урожая этого года. Хлеб и мед пахли цветами. Очень экономно макал хлебом в мед. Незаметно съел весь хлеб, а мед еще остался. Было бы кощунством вылизать остатки меда или выскрести ложкой. Посидел, помолчал и заявил: «Хлебушко-то я съел, а медик остался». Баба Мария отрезала новый ломоть хлеба. Быстро расправился с остатками меда, посмотрел, что большая часть ломтя осталась не съедена. Ну а кто в деревне ест хлеб всухомятку, и оставить кусок хлеба недоеденный – великий грех. И снова заявляю: «Мед-то я съел, а хлебушко остался». И пришлось бабе мари подливать мед. Пока была жива баба Мария, все посмеивались надо мной.
Когда принес мед домой, мама налила в большую фаянсовую кружку мед и стала угощать бабушку. А мои братья и сестры стояли вокруг постели бабушки и смотрели на мед и на бабушку. Мама говорит: «Поешь, маменька, меду, может, легче станет». Та попробовала чуть-чуть ложечкой и промолвила: «Нет, не поможет уже, пусть дети полакомятся».
Флаг для Первомая
Вторая половина 30-х годов. Принята Конституция Союза, прошли первые всенародные выборы в Верховный Совет СССР, в стране мощный патриотический подъем. Первый год в школе. Мы, первоклашки, ловили каждое слово молоденькой восемнадцатилетней, зеленоглазой, подстриженной по моде тех лет нашей учительницы Анны Андреевны. В школу бегали на станцию Григорьевская – за десять километров. Большинство детей, особенно из дальних деревень, были переростки.
Перед Первым мая Анна Андреевна сказала, чтобы мы вывесили красные флаги на своих домах. Дома я перерыл все, что бы подходило для флага. Папина бордовая рубаха, вышитая петухами и елочками, ну никак не подходила для флага. Вспомнил, что наша крестная, а мы ее звали почему-то Кокой, каждый год на Троицын день вынимала из сундука прекрасную малиновую шаль с кистями. Немного покрасовавшись в ней перед соседями, прятала снова на дно сундука. Жила она по соседству с нами. По рассказам матери, появилась она в нашей деревне после гражданской войны. С родителями дружила. Детей у нее не было. И всю свою ласку она отдавала нам: моим братьям и сестрам. Это была женщина лет под пятьдесят, с крупными голубыми глазами, длинными русыми волосами, которые она носила на пробор, розовощекая, всегда задумчивая.
Вспомнив о ярком платке, я пробрался в дом с мыслями: зачем такой красивый платок будет лежать в темном сундуке, никем не увиденный, а мы все тут будем любоваться. Изрядно попыхтев, я вытащил платок. Разостлал на свежевымытом деревянном полу, по которому играли солнечные зайчики. Платок занял все свободное пространство. Он был квадратный и никак не укладывался в мое понятие о флаге, какой я видел на углу школы. Недолго раздумывая, я разделил платок на две части. Одну часть спрятал обратно в сундук, а другую прибил гвоздями к держаку грабель и водрузил на князек крыши. Флаг ярко подыхал не только над деревней, но и над всей округой: полями, лесами, лугами. Когда Кока с соседкой пошли к нам, чтобы поздравить с праздником, то порадовались трепыхающемуся на ветру флагу и спросили маму: «Где ж ты, Татьяна, достала такой материал на флаг?» Мама вместе с Кокой вышли из избы и, приглядевшись, ахнули, ведь для флага был использован Кокин платок. Как потом узнал позже, это был подарок Коке, Арине Романовне, от приказчика Строгановых из села Ильинского.
Немедленно был поставлен в известность мой отец, который редко разбирался в причинах проказ детей. Ремешок висел аккуратно на гвоздике. Никаких слов, быстро начиналось воспитательное воздействие. В это время надо было успеть обежать вокруг русской печи и по ступенькам заскочить на полати. На этих ступеньках всегда достигал ремень. На этот раз Кока загородила меня и сказала: «Не надо бить». Она поняла мой поступок, и я благодарен ей за это по сей день.
Птичка
Предвоенный год. Весна благоухает цветущей черемухой. От земли идет тепло и благодать. Травка перед домом растет прямо на глазах! Отец работает на железной дороге. На работу ходит за пять километров. Старший брат Семен учится в седьмом классе, бегает па экзамены в школу за десять километров Мама мотается за грибами и ягодами. Я дома с малышней. Мне десять, сестре Тане пять, брату Мише полтора года, сестре Жене полгода. На поляне полдюжины ребят гоняют чижик. Хочется выбежать хоть на минутку. Уговариваю сестренку посмотреть за малыми полчасика. Женя спит в люльке, Миша сидит на полу и рвет учебник брата. Отпускает. Выскакиваю с радостью. Включаюсь в игру и забываю обо всем. Из дома выбегает плачущая нянька. Шмыгнул в дом. Из люльки выпала младшая, Миша наложил кучки вдоль лавки и ходит по ним, шлепая ножкой. Я хватаю сестру за волосы, хлопаю по ягодицам. Возмущаюсь, что недоглядела. Сестрица в рев. Распеленываю младшую, мокрая по шею. Руки, ноги целы, а на голове огромная шишка. Начинаю совком собирать с пола какашки. Мою под умывальником попу и ноги Миши.
Младшие успокаиваются, но Танюшка продолжает всхлипывать – обида. Уговариваю, но результат обратный – слез еще больше. На улице за наличником пищат птенцы. Два семейства. По выводку с того и другого конца наличника. Воробьи то и дело садятся на подоконник с червяками и букашками в клюве. Говорю сестре: «Таня, хочешь, птичку поймаю? Посадим в корзиночку, и вы будете кормить ее крошками». Отвечает: «Поймай!» Плакать перестает. Во дворе нахожу маленькую лестницу, подставляю к окну. Окна высоко. Взбираюсь на последнюю ступеньку лестницы, засовываю руку за наличник. Птенцы уже большие и вырываются из рук. Я теряю равновесие. Лестница скользит по окну и разбивает верхнее стекло. Мы перепуганы – это большое безобразие, от родителей будет трепка. Кое-как собираю стекло, укрепляю лучинками. Договариваемся, что виновата кошка – бросилась в окно ловить бабочку и разбила стекло.
Приходят мама, брат из школы, отец с работы. Мы наперебой рассказываем, как кошка разбила стекло. Они устали. В доме бедлам, надо наводить порядок и готовить ужин, не до окна. Меня отправляют с подгузниками на ручей, их надо прополоскать. Вечером ужинаем; уселись за столом. Танюшка рядом с отцом, она у него любимица. Ласковая, послушная, толковая. Я с братишкой Мишей рядом, слежу за ним. Мама с младшей на руках. Спрашивает, почему у Жени шишка на голове. Объясняю, что пробовала ползать и ударилась о ножку лавки. Отец спрашивает: «Как вы тут домовничали? Шура вас не обижал?» Все молчат, только у сестрицы Танюши заморгали глазки, и слезы горошинами покатились по щекам. Обстановка ясная. Мне надо успеть нырнуть под стол и выскочить на улицу, иначе папина ложка может припечататься к моему лбу. Жду на поляне, пока мать не позовет снова за стол. Отец успокоился. Глазки у сестрицы просохли. Дружно стучим ложками в чашке с похлебкой.
Дядя Митя
Солнце палило нещадно. Бабы и девчата ворошили сено в валках. Тучи бабочек и мошек вылетели из-под граблей. Пахло мятой, душицей тысячелистником. Мужики деревянными вилами сваливали его в огромные копны. Под валками, прячась от раскаленного солнца, копошились жуки, козявки, личинки. Следом за мужиками над лугом носились стаи разноперых пичужек. В основном это была молодь, встающая на крыло. Молодые коршуны, ястребки группками сидели на высоком кустарнике, одновременно взлетали и цапали зазеленевшихся птах и, пролетая над головами, садились в кустарник за рекой. Над рекой раздавался девичий хохот и птичий гомон. Девчата то и дело бегали к речке и с разбегу прыгали в небольшой омут. Вода в шустрой речушке Ольховке, заросшей ивняком, ольхой, калиной и смородиной, была прохладной.
Дядя Митя – высокий семидесятилетний мужик с сивой бородой клином, с поблекшими голубыми глазами, – втыкал огромные трехрогие деревянные вилы в копну и поднимал над головой. Охал и медленно опускал на стог, закрывая сверху бабу Пелагею. Та беззлобно кричала: «Ты что, дед, очумел, целую копну на вилы хватаешь. Смотри, гусеница вылезет. Бери по половине, а то я граблями не ухвачу». Дядя Митя серьезно отвечал: «Видишь за Поломкой, над Кадилово, тучи топорщатся кверху и молнии полыхают, через час, другой и к нам гроза придет. Если не управимся, сено погубим». Молодые парни, таскавшие копны, взмолились: «Дядя Митя, давайте передохнем, утомились». Побросав носилки, побежали к речке, к омуту, откуда слышалось девичье верещанье. Девчата завизжали, повыскакивали из воды в мокрых ситцевых платьях, которые прилипли к телу. Ломали ивовые прутья и стегали парней, приговаривая: «Вот вам, охальники, вот». Уселись под стогом сена, который громоздился над лугом, оставалось завершить его. Бабы повытаскивали из ручья крынки с топленым молоком, на холстинки выложили молодое луковое перо, вареные яйца. Мужики пооткрывали берестяные туески с хмелевой брагой, рехая, отпивали пенное жито. Тут были все свои: дальняя и ближняя родня, кумовья и кумушки, сватовья и сватьи. Племянники дяди Мити: Ванька Спирихин – долговязый мужик с невыспавшимися глазами, Ванька Федюнин – тощий парень с тоскливой физиономией – подсмеивались над дядей Митей, а звеньевой Васька Макарихин подначивал им: «Дядя Митя, а дядя Митя, что же это у тебя коленки голые? Видно, к молодушке подлаживался, от натуги и полопались, или на четвереньках, вместо петуха, за курицами гонялся». Васька Макарихин добавил: «Это у него от злости на Советскую власть коленки заострились». Дядя Митя не выдержал, соскочил, захлопал себя по коленкам и ягодицам, матернулся и скороговоркой выпалил: «Раньше я в суконных штанах ходил и, между прочим, без заплат, а сейчас в холщевых с заплатами и не только коленки голые, но и задница сверкает – вот вам колхозы. Вот вам и Советская власть». Васька Макарихин стучал кнутовищем по сапогам, выкрикивая: «Но-но, ты мне осторожней на поворотах, а не то быстро на Соловки загремишь». Дядя Митя огрызался: «Какие уж там Соловки, хуже не будет. Все запасы сносил, целыми днями со своей бабой в поле, огород под окном зарос, стыд один».
Вечером у звонка на бревнах, дымя цигарками, мужики бурно обсуждали упреки дяди Мити. Ванька Спирихин егозился больше всех: «Контра он, к ногтю его». Было решено написать на него «куда следует», чтобы другим неповадно было. Нашли листики из школьной тетрадки, слюнявя химический карандаш, описали все подробно. Все трое подписались: два племянника и крестник.
Рано утром Васька Макарихин верхом на лошади отправился в село Григорьевское. После обеда с Васькой приехали на телеге милиционер и депутат Сельского Совета. Мите дали два часа на сборы, усадили в телегу. Митиха, не помня себя, бежала вслед за телегой, которая увозила родненького. Бежала, падала и снова бежала, пока силы не оставили ее. Рядом с телегой трусил приемный сын Митенька. Крупные слезины одна за другой опережая друг друга, катились по исхудалым щекам деда Мити, губы тряслись, и он ничего не мог сказать, только мычал. Наконец, совладел с собой и проговорил: «Сыночек, прощай береги мать, завтра принеси в село полушубок, шапку и под. шитые валенки, видно надолго меня забирают, наверное, более не увидимся, старый я стал, прости меня, если чем обидел».
Почему так, почему мы ожесточились, почему стали доносчиками? Ради чего готовы были упрятать своих родных и близких? Ответа, наверное, и сейчас не даст никто. Прошли годы, а от дяди Мити нет весточки. Ни слуху, ни духу, как в воду канул. В деревне говорили, сгинул дядя Митя.
Со временем уходит память о наших дедах и прадедах.
«Одина»
Бабушка моя по маме, Татьяна Торопица, снимала нижний этаж одного из домов Гриши Кашина, где день и ночь варилась брага, настаивалась и продавалась. Татьяна Терентьевна женщина в годах, широкобедрая, круглолицая, с черемными волосами, маслянистыми с поволокой глазами, белозубой улыбкой – рассаживала мужиков за длинным столом, предлагая хмелевую парную брагу: литровую глиняную кружку – за пятак, пол-литровую – за три копейки. Меж рядов бегала младшая дочь Татьяна и просила у мужиков копейку на конфеты и печенье. Если не давали, могла плюнуть в бороду и убежать. Из рода в род первенца-мальца называли Терентием, а одну из дочерей – Татьяной.
Татьяна Терентьевна Торопица имела прозвище «Табора». «Табора» – это за то, что в нижнем этаже день и ночь толпились кучи мужиков, чтобы испить отменную Татьянину бражку. У Татьяны каждый год рождалось по дитю и все от разных мужиков, особо от тех, которые побойчей, половчей и с достатком в кармане. Некоторые гостевали по неделе. Татьяна хвасталась: «Я – ермаковская казачка». По преданию, передаваемому из поколения в поколение, в церковных книгах села Ильинского, резиденции приказчика Строгановых, было записано: десятник атамана Ермака казак Терентий Торопица венчался с девицей Татьяной.
Из восемнадцати детей встали на ноги Парасковья, Семион, Феклинья, Арина, Аксинья, Татьяна. Хоть и гульная была, но золотые червонцы Николаевской чеканки откладывала для покупки своего дома. Кроме младшей дочери Татьяны, детей с ней не было – забирали или родня, или бездетные. Она охотно расставалась, зная, что народит новых.
Орину отдали на реку Паю, где и вышла замуж за Григория. Воспитывалась Орина в набожной семье, где без молитвы ни шагу. Григорий с братьями не заладил и в годы НЭПа решил отделяться. Недалеко от речки на пригорке срубил пятистенную избу. Мужик был хозяйственный и силой был не обделен. Года через три усадьба виднелась издали свежесрубленными строениями. Григорий летом – на пашне, а зимой – в извоз. Всю зиму перевозил в городе грузы. Лошадь попалась породистая – ломовая. Зарабатывал хорошо. Жену Орину берег, тяжелю работу делать не разрешал. Орина каждый год рожала детей, но они умирали малыми. По хозяйству управлялись две бездомные нищенки, обе слабоумные, но крепкие и здоровые. Обе были рады, что у них есть дом. В доме они чувствовали себя не работницами, а хозяйками. Покрикивали друг на друга, если что не ладилось. Орина в хозяйство не вмешивалась, больше молилась, чтобы Бог дал дитя-наследника. Григорий привез из города няню, старую фельдшерицу, дочь Анну удалось выходить. Семья на хуторе жила замкнуто, с соседними деревнями не общались, поэтому прозвали их усадьбу не хутор, а «Одина».
Началась коллективизация. Анюте шел пятый год. Приехали уполномоченные и предложили вступить в колхоз, у Григория начались бессонные ночи, страдал: «Все отдать? Столько трудов вложил». Хозяйство свое вел на научной основе – была своя молотилка, маслобойка, кузня, лошадь, две коровы десяток овец, куры, гуси. Через месяц принесли огромный налог. Григорий, что можно было продать, продал: гусей, корову, подтелка, зерно добавил скопленные деньги на покупку дома родителям, но этих денег не хватило. Через полгода принесли новый налог, плюс недоимки за старый, Григорию платить было нечем. Молотилку и маслобойку никто не покупал, а с коровой и лошадью расставаться не хотелось. Весной приехала комиссия, все описала за неуплату налога, кроме дома. Подогнали подводы, стали грузить. Очумевший Григорий бегал от подводы к подводе, не давал грузить. Впервые и жизни матерился, костерил всех подряд. Григория связали вожжами по рукам и ногам и увезли. Забрали корову, лошадь, загрузили подводы зерном, имуществом, даже часы с боем прихватили. Орина больше не видела Григория, куда увезли из сельсовета, никто не говорил.



