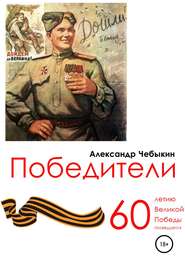 Полная версия
Полная версияПобедители
Плата за землю деньгами отпадала: где их взять? Хорошая корова стоила семь-восемь рублей. Откуда деньги? В хозяйстве все натуральное, самодельное, начиная от деревянной ложки, лоханки, саней, заканчивая зипуном и катанками. На ярмарках в Ильинском и Григорьевском ничего не продашь. У селян все свое. Товар скупали перекупщики за бесценок. Мужики с осени накапливали кружки топленого масла, туши свиней, баранов и везли к Рождеству на базар в Пермь. Останавливались обычно на заимке, где были постоялые дворы. До заимки полтора дня езды, ночь проводили в Нижней Курье. Дорога дальняя, более семидесяти верст. Ехали на пяти-шести подводах, так сподручнее. Не дай бог случится отворачивать от встречного ездока. Снега более метра наметает к Рождеству, а к масленице – около двух. Отвороти в сторону – и лошадь по брюхо в снегу, лопнувшие завертки или треснувшая оглобля. Да и мороз под сорок – дело нешуточное. За возом бежать – спина мокрая, в тулупе путаешься, сидеть на санях – коченеешь.
Рубить десять сажен в длину и сажень в высоту – это работа всей семьей на два месяца. Двое пилят, один сучкует, подростки прутья собирают к костру. Делянка должна быть вычищена. Утомительная и тяжелая работа с кряжами на морозе.
Жечь древесный уголь – на это требуется сноровка и терпение. Надо подобрать хороший сушняк, нарезать, оставить в кучах – шишах, обложить его дерном. Вверху невеликое отверстие сбоку, снизу регулируемая щель для доступа воздуха. Надо иметь великое умение управлять огнем, чтобы бревна потомились и превратились в уголь. Многие пробовали жечь уголь – не получалось: или сгорало дерево дотла, превращаясь в золу, или обугливалось только сверху, а сердцевина оставалась нетронутой. У хорошего обжигальщика после раскрытия шиши бревна рассыпались огромными углинами. Уголь этот отвозили на плавильные заводы в Григорьевское, Нытву. Из трех сыновей Федоса уголь жечь изловчился только Михаил.
Мужики долго спорили – решили идти на сплав, дело это стоящее: Россию посмотрим и денег подзаработаем, если повезет. Сплав начинался в конце апреля. За две недели по быстрой весенней воде плоты доходили до Астрахани, а оттуда если торопно, то за шесть недель добирались домой. Зачастую нанимались тянуть баржи вверх по Волге. Хозяин обеспечивал харчем и еще платил. Среднюю баржу тянули до десяти человек. Времени уходило до двух месяцев. К уборке озимых успевали.
Было решено: идут вчетвером – Иван с сыновьями Марко и Мелентием, которые жили самостоятельными хозяйствами, и Осип. Мужики плели запасные лапти, сушили сухари, коптили мясо. Отгуляли пасхальную неделю, попрощались с родными, и, до начала водополя. Федос отвез сплавщиков в Добрянку. Тут из них формировали бригады: на каждый плот по восемь человек, две смены – рулевой, двое боковых и смотрящий. Запаслись сушняком для очага. Плоты собирали специалисты-плотовщики. На центральном плоту ставили рубленый домик из жердей. Выкладывали на середине плота гнездо из камней, утрамбовывали его вязкой глиной – и место для огня готово.
В апреле и начале мая Кама бурная и полноводная. Вода затапливала окрестности и на стремнине мчалась с гулом и яростью.
Главное на плоту – не зевать, чтобы не столкнуться со встречной баржей или весельным баркасом, чтобы плоты не слетелись друг с другом и не расшиблись. Самый главный на плоту – рулевой, но и смотрящий не может быть раззявой, а боковые должны обладать недюжинной силой – чтобы могли вовремя оттолкнуться от встречного препятствия.
Помолившись в соборе, мужики отправились в путь. До Казани плыли быстро, без происшествий, встречный транспорт попадался редко. Полюбовались на Казанский кремль. За Казанью Кама впадала в Волгу. Два мощных течения встречались недружелюбно, боролись: чья возьмет, за кем будет власть. Плоты на стыке течений начало крутить, разламывать. Бревна стали расходиться, веревки лопаться. Рубленый домик перекосился. Сплавщики носились по плоту от края до края. Плот бросало из стороны в сторону, кругом трещало и охало. Третий раз гонял плоты Осип, но, по характеру горячий, больше суетился и матерился. Иван только вскрикивал и крестился, а Марко бегал за отцом и орал: «Тятенька, утонем!» Мелеха оказался более догадливым – сообразил, что надо править к левому берегу, более пологому, где вода шла тише. Мужики пришли в себя, начали слушаться Мелеху. Плот растрепало – надо было его стягивать. Осип, перевязывая бревна, соскользнул, и ногу зажало между бревен. Заорал: «Спасите, караул!» Подбежал Иван с багром, отжал бревно, Осипа вытащили, но Иван на мокрых бревнах не устоял и ухнул в воду. Спас его багор: Иван успел зацепиться им за бревна. Лапти намокли, тянули вниз, багор скользил в руках. Пальцы не слушались. Мелеха кричал: «Тятенька, бултыхай ногами!» Однако ноги не слушались, свело судорогой. Мелеха выхватил багор у Марко, еле-еле смог уцепить Ивана за зипун и подтянул к плоту. Вытащили. Сняли с него мокрую одежду, выжали, повесили сушить, одели в сухое. Пока вылавливали Ивана, плот отжало к левому берегу и посадило на мель. За лужком виднелась деревня. Мужики стали кричать и махать. Подплыл на лодке низкорослый, конопатый, с большими ушами татарин. Представился: «Касим я, Касим! Садитесь по двое в лодку, перевезу в деревню. За плот не беспокойтесь, дело к вечеру, вода спадает, сейчас плот не сдвинуть, и никуда он до утра не денется». Касим натопил баню, выпарил мужиков, напоил кумысом. Навалил овчины на пол, уложил спать. Утром на завтрак наварил огромный чугун супа из конины, в котором плавали крупные клецки. Пока одевались, набилась полная изба татар, многие хорошо говорили по-русски. Пошли разговоры. Во дворе запыхтел огромный самовар. После трапезы на шести лодках поехали к плоту. Плот чуть развернуло. Сообща плот с мели столкнули, но он не двигался по течению. Отталкивались, пока хватало длины шестов. Касим, поругав шайтана, сказал: «В мертвую воду попали, заводь тут». Мимо по разводью двигались плоты, обгоняя друг друга. Касим попросил длинную веревку. Связали трое вожжей, закрепили на плоту. Татарин смотал вожжи в круг. Мимо заводи медленно проходил плот. Касим кричал плотовщикам, размахивал руками, пояснял. На плоту поняли. Покрутив вожжами в воздухе, Касим метнул их на соседний плот, там успели поймать. Касим приказал отталкиваться шестами, вожжи натянулись, плот медленно сдвинулся с места и тихо пошел по течению. Рулевой стал выправлять на стремнину. Мужики обрадовались, бросились обнимать татар. Иван побежал в домик, вытащил из сундука рубаху, вышитую петухами и елочками, подарок жены к свадьбе, поднес Касиму. Тот догадался, что это самое дорогое для Ивана, стал отнекиваться. Иван настаивал: «Это память жителям деревни за выручку». Татарин, не долго раздумывая, отцепил от пояса кривой нож с инкрустированной серебром ручкой. Иван опешил – он знал цену такому ножу. Распрощались по-братски. Мужики долго махали шапками, пока лодки татар не слились с берегом.
До Жигулей плыли ходко, пристроившись впритык к другим плотам. Раза два попадали под дождь, но весеннее солнце быстро высушивало одежду. У Жигулей началось светопреставление. Скопились плоты, получилось стопорение. Стараясь вырваться из этого затора, еще больше создавали суматохи. У яра плоты попадали в круговорот, их разламывало. Над рекой стоял треск, слышались вопли. Спасать было некому. Некоторые сплавщики бросали свои плоты и прыгали на другие. Посовещавшись, мужики решили: пока не зажало подплывающими плотами, чалить к левому берегу, на отмель. Отталкиваясь баграми от других плотов, отходили к левому берегу. Плот затянуло в заросли ивняка. Просматривалось дно, но и здесь течение еще беспокойное. Раза два застревали между старыми ивами. Приходилось спрыгивать в обжигающую холодом воду, подрубать ивы и так двигаться по течению. Никто не последовал их примеру, думали, что пронесет. Остальные плоты выбрались из затора только через неделю – после того как утихла большая вода.
К вечеру утесы Жигулевских гор остались позади. Перед Астраханью их встретил строгановский приемщик. Завели плот в одну из проток. Продукты кончились. В мешках осталось по паре пригоршней крошек от сухарей. Приемщик знал, что десятки плотов разбились у Жигулевских гор. За благополучную доставку вручил каждому по три рубля. Рядили, судили, как добираться домой. За пару месяцев можно и пешком, подрабатывая в дороге на хлеб, но можно наняться тащить баржу. Работа эта адская, но зато платят по пятнадцать рублей.
Мелентий, как грамотный и наиболее расторопный, нашел артель из таких же сплавщиков, которые не раз таскали баржи. Договорились. Баржа была среднего класса, груженная товаром из Персии. Хозяин обещал кроме платы кормление, одежду и обувку (по две пары лаптей). На дорогу хозяин запасся сушеной рыбой, крупами. Хлеб покупали в прибрежных селах, на остановках. При барже было шесть человек охраны, вооруженных кремневыми ружьями и бердышами. Первые дни шли берегом быстро, делали по сорок километров в день. Мелентий смотрел, как их обгоняли парусники. Дул сильный ветер-южак. Мелентий предложил хозяину поставить парус. Тот завозмущался: «Я вам плачу, а ваше дело – тащить». Мелентий попробовал разубедить хозяина, объясняя, что с парусами баржа дойдет быстрее, меньше расходов на продукты, а главное – ускорится оборот товара. Хозяин баржи – неуклюжий, толстопузый, мордатый, лысый, с приплюснутым носом, – почесав в затылке, согласился: «Верно говоришь, черепок у тебя варит. Назначаю старшим в артели». На что Мелеха ответил: «Нехорошо это будет, я на сплаву впервой. В артели есть старшой – другие возмутятся». Хозяин улыбнулся: «Верно и на этот раз говоришь, а потолковать с тобой интересно». Мужики соорудили на барже две мачты, сшили два полога, натянули. По ветру баржа пошла ходко. Артельщики повеселели, а то уже плечи порастирали. Днем хозяин выдал сменку – пестрядинные штаны, белые рубахи, новые лапти. Решили переодеться вечером, помывшись в Волге. Вода на отмелях прогрелась, дымился костер, булькала в казане каша, заправленная сушеной рыбой. Артельщики, наплескавшись в воде, стали одеваться. Иван, самый высокий, обутый в один лапоть, возмущался: «Где второй?» Мужики подшучивали: «Нырнул к царю водяному, поплыл к астраханским девкам». После купания и отдыха ложки бойко стучали о казанок. Смакуя, вытаскивали разварившуюся рыбу. Иван, почерпнув со дна, почувствовал, что попалась здоровенная рыбеха. Когда вытащил – артельщики очумело переглянулись и загоготали. Новенький лыковый лапоть вывалился из казана. Осип, матерясь, бросил ложку и побежал в сторону, икая. Иван обрадовался, заорал: «Нашлась потеря!»
До Симбирска дошли спокойно. Кто-то решил подшутить над хозяином. Над дверями повесили ушат с водой, веревкой привязали к дверной ручке. Утром хозяин открыл дверь, и на него хлынул поток воды. Не сообразив, что к чему, он с силой дернул веревку, и ушат сорвался ему на голову. Хозяин успел только вскрикнуть: «Ой!» – и упал на настил. Кожа на макушке рассечена, кровь хлещет, сам весь посинел. Кто-то сказал: «Отдал Богу душу». Мужики засобирались от греха подальше, а то еще затаскают по судам. Мелентий отговорил. Обстриг волосы вокруг раны, промыл рану водкой. Стал делать холодные примочки к вискам. Через час хозяин открыл глаза. К вечеру его уложили на топчан. Мелентий руководство взял на себя. На второй день опухоль с лица спала, но синяки под глазами остались. На третий день хозяин встал. Надо было часть товара сгружать в Казани. Рассчитал охрану, правда, незлобно: «Идите подальше с глаз моих! Кого охраняли? Проспали!» Ветер сменился на северо-западный. Паруса пришлось убрать, но разгруженная от части товара баржа шла легко. За две недели до Ильина дня причалили под Разгуляем, в Перми. Хозяин баржи поблагодарил артельщиков. За работу рассчитался по пятнадцати рублей на душу. Мелентию три рубля надбавил за смекалку и расторопность. Спросил, кто над ним так зло подшутил. Один из артельщиков, мужик из Оханска, признался, что сделал это ради шутки.
Иван, Мелентий, Марко, Осип решили заработанные деньги доставить домой, а три рубля Мелехи – на пропой. На оставшиеся астраханские деньги купили подарки домочадцам. Иван пошел навестить кума Трофима, который работал на медеплавильном заводе при Егошихе. На территории завода, около сторожки, увидел кучу болтов в четверть величины. Запихнул четыре штуки под рубаху и, не дожидаясь кума, направился к выходу. Пришел к стану, когда мужиков не было: ушли пить брагу. Котомки лежали кучей. Иван вытащил болты из-за пазухи. Пузо измазано, рубаха в машинном масле. Изругался: куда они ему, разве что на каменку в баню. Однако выбрасывать жалко. Завернул в тряпицу и положил в мешок Осипу. Мужики вернулись навеселе. Похватали котомки и направились к переправе. Шли домой быстро. Осип, обливаясь потом, то и дело поправлял мешок. Дошли до Курьи. Решили отдохнуть, перекусить. Стали доставать съестное. Осип нащупал болты, вытащил, завозмущался: «Кто это надо мной подшутил? Спину болтами натер».
Размахнулся и бросил в речку. Мужики ржали, подначивали Осипа: «Теперь завод без болтов встанет. Заводское начальство объявит розыск. Сидеть тебе, Осип, в каталажке». Перед дорогой Иван полез в воду, нашел болты. «Спасибо тебе, Осип, что выбросил, я подберу, на подковы пойдут, а то Воронко у меня совсем расковался». Осип ухватился за болты, зашумел: «Накось, выкуси! Тащил, тащил, а тебе подковы? Донесу до дома теперича сам». Мужики решили оставить болты Осипу, а то обида будет.
К воскресенью добрались домой. В деревне их ждали уже несколько дней: слышали, что вернулись со сплава. Радость была всеобщая, так как мужики пришли живы-здоровы и при деньгах. Разгуливать было некогда – надо было заканчивать покос, на пригорках наливалась рожь.
Русь моя неоглядная

Деревушка наша до Великой Отечественной войны была невелика, всего 32 дома, а сейчас ее уже нет. На усадьбах одиноко стояли березки и черемухи. Тридцать два мужика погибли в войну, с каждого двора по человеку. Память стирается о людях, живших полвека назад. Многие не знают своих дедов и прадедов. Это Великая Печаль.
До войны почти все семьи вошли в колхоз. Первые годы было тяжело, но в 1937 году выдался великий урожай. Некуда было ссыпать зерно, полученное за трудодни. Мед бидонами развозили с колхозной пасеки. Мужики начинали строиться: кто дом подрубить кто конюшню или баньку новую сладить. По субботам после баньки в летние вечера все собирались на полянке у «звонка» – саженного куска рельса, подвешенного на березовом суку, звоном которого по утрам собирали народ на разнаряд по работам. Мужики рассаживались на бревнах, закуривали, каждый хвалился своим самосадом. Через полчаса над головами стояло сизое облако дыма, и слышался треск цигарок и надрывный хохот. Рассказывали байки про стариц и про события недели с приукрашиванием и насмешкой.
Веселуха
С запозданием подсаживался Ванька Спирихин – долговязый бледнолицый мужик с серыми тоскливыми глазами, обтрепан, не ухожен, в дырявых штанах и давно не стираной рубахе, с синяками на лице и ссадинами на руках. Звеньевой Васька Макарихин допытывался: «Ну-ка, Иван, расскажи, почто ты каждое утро опаздываешь на работу?» Мужики подначивали: «3а бабой спал, перелазил – задержался», – и в таком духе. Иван женился с полгода назад. Невесту привез с другого района, это рядом, за речкой Ольховкой. Девица попалась здоровая, рослая, краснощекая, острая на язык, грудастая, огромные сиськи-каравки выпирали из расстегнутого ворота кофты. В один из вечеров, поматерившись всласть (и в бога и в креста), сказал: «Вам смешно, а мне – горе. С молодухой спасу нет, извела меня всего. Спим мы на печи, тепло, кости хорошо прогревает. Как уложимся, она давай меня ласкать и к грудям прижимать. Как только ей становится хорошо, она изгибается дугой и подбрасывает меня под потолок, а мне ухватиться не за что, и после второго, третьего подбрасывания я слетаю с печи и падаю на приступок. Вот тут-то при падении и ударяюсь то о лестницу, то о брус. В потолок ввернул кольца, но все равно пользы нет». Потом начинают подначивать: «Ты, Иван, вожжами к матице привязывайся на ночь». Иван продолжает: «Она за мной, а я от нее. Вырываюсь… выскакиваю в сени, подпираю жердью двери – и на улицу. После этого конфуза в дом заходить и стыжусь, и побаиваюсь. Отсыпаюсь или на сеновале, или в хлеву. И так каждый день. Я ведь днем на работе шибко устаю, да и ночью плохо высыпаюсь. Мужики, давайте с кем-нибудь поменяемся бабами, готов взять с приплодом, но спокойную».
Баня
В разговор вступает Петр Мелехин – широкоплечий мужик с бычьей шеей, добрыми, ласковыми, василькового цвета главами, с морщинкой поперек лба. Его, хотя и молодого, все звали уважительно: Петр Мелентьевич. Во-первых, Петр уже как год отслужил срочную, участвовал в боях на озере Хасан, а во-вторых закончил курсы трактористов и на обед домой приезжал на колеснике.
«Да, дела. У меня по этому поводу после свадьбы была такая заковыка, что рассказывать и смех и грех. Помните, в прошлом году месяц гостил у тетки. Все удивлялись: только поженились, а я к тетке умотал, а невестку родители домой отвезли, наверное, черная кошка меж них пробежала. Тогда, как ни пытали Мелехиху, она отмахивалась и говорила: «Молодо да зелено, все образуется», – а дед Мелеха только ухмылялся в сивую бороду да глазами по-молодецки поблескивал. Уж начал, так слушайте. Ну, после свадьбы молодым положено в баню идти. Пошли и мы с Оленой, моей ненаглядной. Баня у нас большая, вы знаете, многие в ней мылись. Каменка в ней высокая, гальку на ее укладку сам собирал по промоинам. На каменке – большой старинный котел для нагрева воды. Дружки для молодых постарались: так баню натопили, что вода в чане закипела, а до стен рукой было дотронуться нельзя, как не вспыхнула, удивляюсь. Обмылись мыс Оленой, стали дурачиться, ну, и дело до люби и дошло. Лавки в бане узкие. Устроились на полу. Упирался я, упирался и уперся в каменку ногами. Каменка рухнула – вода из котла на нас вылилась. Ошпарило нас так сильно, что, не помня себя, мы с Оленой с воплем выскочили из бани и голые прибежали домой». Мужики: «Го-го-го! Наверное, и чертей всех ошпарили, да пусть не подсматривают, греховодные!» Петро смеется сам: «Сейчас смешно, а тогда горе было. Хорошо у матушки старый гусиный жир был про запас. Намазала больные места, замотала нас в холстины. Через месяц все зажило, вернулись мы оба домой. Но еще периода, как только уляжемся спать, начну упираться, так все и сникает. Несколько раз к бабке ходил, она нашептывала и святой водой на него брызгала. Помогло. Все стало хорошо. Но дитя никак нет, наверное, это с испуга».
Черт
Позже всех, уже на закате солнца, подходит Иван Субботин – среднего роста мужчина, в хромовых сапогах, в шелковой голубой рубахе с пояском. Подстриженный «под польку», гладковыбритый. Карие глаза светятся хитринкой и удовольствием. Это деревенская интеллигенция. Он работает осеменителем. Два года назад колхоз приобрел племенного быка и жеребца. Через полгода они себя окупили, и сейчас колхозу давали хорошую прибыль. Иван пошел в примаки. С женой Катериной живут с десять лет, а детей нет. Иван погуливает. Катерина старается это не замечать. То ли с горя, что детей нет, то ли еще какая душевная причина, но Иван раз в месяц напивается до чертиков. Обычно кто-нибудь из соседей притаскивает его домой «чуть тепленького» и обязательно обмочившегося. После этакого случая Иван дня два-три на людях не появляется. И так повторяется несколько лет.
Иван здоровается с мужиками за руку, уважительно. Мужики начинают подшучивать: «Иван, черти в доме еще не перевелись?» – и начинают гоготать и охать так, что облачко дыма над ними колышется. Хотя детей у них не было, но Катерина привечала молодежь. В зимние вечера собиралась молодь, порой набивалась полная изба. Были они староверы. Бабушка Варвара Марчиха рассказывала истории про чертей, одну страшней другой. Расходясь по домам поздно вечером, нам казалось, что за каждым снежным сугробом сидит черт. Рассказывая другим, они сами больше и больше уверова-ли в правдоподобность своих рассказов.
Событие это произошло на Рождество, за год до войны. Под Рождество корова принесла им теленка-бычка; в ту зиму морозы стояли лютые: птицы на лету падали, ели рвало на части. Теленочка забрали в дом и поместили за печь. В деревне было правило, бить печи с правой стороны от входа так, что вокруг печи оставался широкий проход аршина на два. Это делалось для более полной отдачи тепла. Теленочку шел десятый день, и он уже хорошо брыкался и бодался. В один из вечеров мужики привели Ивана, хорошо поднявшего. Сняв с него рубаху и мокрые штаны, уложили спать. Катерина жалела мужа, обнимала и жалась к нему; на эти ласки Иван только мычал и причмокивал. Посреди ночи бычок выбрался из-за печи, походил по избе, подошел к кровати, полизал шершавым языком лицо Ивана, тот немного поотмахивался, воображая, что супруга целует его. Бычок стал лизать ниже. На губы попались вкусные соленые подштанники. Стал захватывать в рог со всеми принадлежностями. Иван очухался, зашумел: «Катерина, что ты делаешь, бесстыжая!» Катерина спросонья схватила голову теленка, под руки ей попались бугорки рожков, и закричала: «Черт! Черт! Черт!» Иван соскочил с кровати, сшиб с ног бычка, тот громко замычал. Иван в нижнем белье выскочил в сени. Катерина взобралась на печь, очертила круг и начала читать молитвы. На одних сенях с Катерининой избой стояла изба сестрицы Матрены, которая ходила в солдатках, муж был на действительной службе, служил недалеко, обещался на Новый год в отпуск. Но бабенка она была «без удержу», миленков принимала по рангам: то бригадира, то председателя. На этот раз в гостях оказался уполномоченный из района. Иван стал стучать и рваться к свояченице. Она с перепугу завопит: «Коленька, беги, муж приехал!» Уполномоченный Коленька в нижнем белье, схватив полушубок, вышиб окопную раму, и вместе с ней вывалился под окно на снег, и побежал босой к дороге. Иван, сорвав дверь с петель, через проем окна увидел прыгающее по снегу странное существо и закричал: «Там черт!» Схватив висевшее на стене ружье, начал палить. Деревня проснулась. Ударили в рельсу. Все бегут с криками: «Черт! Черт! Черт!» Окружили, стали ловить. Поймали. Оказался уполномоченный по заготовкам из района. Отогрели. Брагой напоили. Отправили домой. Хохотали до масленицы.
На масленицу случилась новая оказия. Мужики поспорили, кто шире лизнет топор с мороза, по это другой рассказ.
Масленица
После Рождества в деревнях на севере России идет подготовка к масленице. Морозы в это время трескучие. В феврале бушуют вьюги. Ни в поле, ни в лес не выйдешь.
Мужики готовятся к масленице: возят воду в бочках, заливают кадушки, ремонтируют старые сани для разгула. На днище корыт наращивают ледяную корку. Масленица! Гулянье! С горы всей деревней поездом: кто на санях, кто на корытах, а кто и на перевернутой лавке – летят вниз под косогор сломя голову. Хохот, визг, рев! Потом начинается гостенье. В деревне все родня: дяди, тетки, сватовья. Кумовья. Сегодня – к одному в гости, завтра – к другому. Брага пьется большими пяташными кружками, хмелевая. Для почетных гостей пивко, да еще с изюмом.
На этот раз гуляли у дедка Федулы. К вечеру бабы разошлись по домам, чтобы скотину напоить, накормить. Мужики, изрядно захмелевшие, дурачатся, борются в захват. Кто внизу – у того обида. Дело доходит до перебранки. Дедко Федула, которому за девяносто, рыжебородый старик, большеголовый, лысый-прелысый, тихо предлагает: «Мужики, хватит бузить, давайте-ка на спор, кто шире лизнет обух топора с мороза». Мужики засопели. Выражают недовольство: «Че это я чужой топор лизать буду, пусть каждый свой». Изба мгновенно опустела. Мужики поспешили за топорами. Притащили, хвалятся, что его топор самый ладный да острый. Выложили топоры на притоптанную завалинку на вечерний мороз. Каждый в уме прикидывал: «Лизнут, так лизнут – ничего страшного нет, на улице голыми руками за железо беремся и ничего».
Через пару часов возвращаются бабы, мужики затаскивают топоры, побелевшие на морозе. И по команде деда Федулы, широко раскрыв рот, одновременно хватают жгучее железо языками и тут же с воплями отдергивают. На каждом топоре остается кожица с языка. У некоторых хлыщет кровь. Только один Федюня, солдат еще с германской, долго держит язык у топора, а потом медленно отнимает и смеется: «Ну как, хороша каша из топора с морозца?» Непоседливая, сухонькая старушонка Федулиха кричит: «Мужики, не бедствуйте, мочой, мочой детской на язык и все пройдет». Игнат – бездетный мужик-молодожен – скачет на одной ноге, слезы льются из глаз; матершинник страшный, на этот раз только размахивает руками, показывая жестами своей бабе, чтобы помочилась ему в ладонь.
Вскоре все расходятся. В последний день масленицы бабы с блинами идут к дедке Федуле, низко кланяются, выговаривают: «Спасибо тебе, дедко, мужики-то наши три дня молчат – слова плохого не слыхали».



