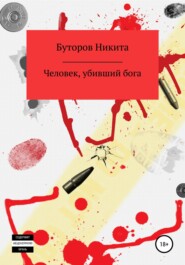
Полная версия:
Человек, убивший бога
– А ты? Ты любишь людей?
– Я спустился в ваш мир вместе с Отцом. Он показал красоту всего окружающего, он научил тех немногих, последовавших за ним, любви. Безусловно, люди заслуживают любви, как и вся жизнь, созданная им, заслуживает того, чтобы ею восхищались, лелеяли и любили.
– Допустим, я верю в твои благие намерения, ангел. Но даже если я найду ответы на вопросы, которые терзают меня, что от этого изменится?
– Ты недооцениваешь силу своего духа. Найдя гармонию, ты сможешь обрести надежду, ты сможешь найти покой.
– Но Бога это не воскресит, так ведь?
– Увы, нет. Его свет угас навечно, но свет солнца, свет сотен тысяч душ еще не померк. Жизнь продолжается.
– Да, это точно. Она продолжается. Ненависть, войны – они по-прежнему с нами и диктуют свою волю. Бог мертв, а его проклятая сущность внутри нас ликует от полученной свободы.
– Пожалуй, ты еще не готов. Я пришел слишком рано.
– Не готов к чему? К ответам? Я не нуждаюсь в них!
– Нуждаешься, и ты их получишь. Но, пожалуй, я слишком поторопился. Горе застилает разум, но со временем и это пройдет. Отправляйся в свой путь, и очень скоро мы вновь встретимся. Тогда ты познаешь истину.
– Какой путь? О чем ты? Почему сейчас рано? – сорвался на крик Никита.
Но ангел уже исчез. Возгласы пронзили тишину пустой подворотни и растворились, разбившись о камень. Он вновь остался один, брошенный на произвол судьбы, без желанных, но, в сущности, бесполезных ответов.
Как же хотелось повернуть время вспять, вернуться назад и всё переиграть. Он мог бы отговорить товарищей от ограбления, сохранить жизнь Богу и им. Войны могло бы не быть, могло бы не быть той ненависти, что пламенем вспыхнула в сердцах людей, не выстрели он в церкви. Всё могло быть иначе, но всё произошло, всё это случилось. И теперь, не в силах ничего исправить, он должен наблюдать последствия, должен за них расплачиваться. Такова цена поспешности.
Морально истощённый, физически ослабший и, пожалуй, самое ужасное – одинокий, Никита не представлял, как быть дальше. У него не было ничего, кроме внутренних терзаний. Деньги кончились, ищет ли его охранка или нет – он не знал.
Погружённый в тяжёлые размышления, он покинул тихий закоулок и вновь окунулся в уличную суету, в эту до безумия накалённую гущу. Все вокруг говорили только о войне. Бригады бравых мужиков разъярённо прочёсывали улицы в поисках немцев, австрийцев и, как водится, евреев. Чем им не угодили последние – тайна для любого неангажированного зеваки. Жандармы наконец пришли в себя и начали хоть как-то пытаться навести порядок, но попытки были робкие, да и не особо настойчивые. Разгонять разъярённые массы, готовые в любой момент дать отпор или разбежаться, а потом стихийно собраться в любой части города, – это как минимум очень сложная затея, если не сказать, что опасная и безнадёжная.
Таковым был весь Петербург, а позже и вся Россия летом 1914 года.
Никита просто брёл среди всех этих людей. Ненависть вытесняла жалость. Он видел, с какой бравой мужественностью мужчины и мальчишки в приливе патриотической гордости готовы идти на войну, откуда скорее всего не вернутся. Но и это скоро прошло. Усталость вновь набросила свои путы. Силы покидали его, но как быть, он так и не решил.
День плавно уступал своё место ночи. Жизнь не утихала, всё продолжало кипеть. Из трактиров слышались радостные крики, погромы продолжались. Никиту уже валило с ног. Зайдя в первый попавшийся двор, он как можно незаметнее дошёл до сарая и плюхнулся в стог сена, где забылся крепким, тупым сном.
Глава 5
Утро не встретило его ничем хорошим. Хозяин сарая обнаружил нежданного гостя и чуть ли не пинками выгнал Никиту вон. Выспаться, естественно, не получилось, хотя за ночь он не проснулся ни разу. Живот сводило от голода, ноги еле двигались.
После вчерашнего дня город немного пришёл в норму. Вчерашнее сумасшествие сошло на нет, лишь изредка попадались отголоски прошедшего дня – те, кто ещё не успел протрезветь.
Бесцельно бродя по улицам, Никита увидел первые очереди добровольцев, готовых отправиться на войну. Очередь была немаленькой. В силу небывалого подъёма патриотизма недостатка в солдатах армия точно не испытывала. Здесь были все слои общества, но самым удивительным для Никиты было обилие рабочих. Те, на кого они надеялись при начале революции, шли добровольцами в царскую армию.
И тут, подобно коварному удару в спину, настигло его новое разочарование – самое горькое из всех. До сего часа в душе его теплилась непоколебимая, почти фанатичная уверенность: вот-вот, и многострадальный пролетариат, изнывающий под пятою самодержавия, сбросит наконец ненавистное ярмо. Он свято верил, что люди изнывают по переменам и лишь ждут первого сигнала – и он был убеждён, что этот сигнал они подадут сами.
Но действительность явила себя злой насмешкой. Вместо того чтобы поднять знамя революции, этот самый народ, о чьём благе он бредил, с диким воодушевлением ломанулся на немцев, славя имя царя. В один миг всё, чему он посвятил три последних года жизни – все тайные сходки, рискованные акции, пламенные споры, – предстало не просто напрасным, но и до жути наивным, ребяческим заблуждением.
Словно пелена спала с глаз, обнажая неприглядную правду. И он с отвращением узрел её: все их действия с товарищами были не во имя этого самого народа, а ради торжества собственных, таких же догматичных и эгоистичных идей. Они, горделиво мнившие себя спасителями, сами, не спросясь, решили, что будет лучше для тех, кого они на деле не знали и не понимали. Горький вопрос обжёг сознание: так чем же они, в своей слепоте, лучше того, против кого боролись? Ответ пришёл мгновенно и беспощадно: ничем.
Голод вновь напомнил о себе. Никита принюхался и уловил смрадный запах. Неожиданно он обнаружил, что смердит он сам. Резко повернувшись к витрине, он увидел в отражении грязного, заросшего мужика. С отвращением отвернувшись от витрины, он опять посмотрел на очередь.
Все идеалы прошлой жизни рухнули. Всё, во что он верил, оказалось иллюзией и слепым эгоизмом. У него ничего не осталось – ни в физическом, ни в моральном плане. И что же остаётся в сухом остатке? Пустота. Терять нечего.
Он сделал шаг. Ещё один. Ноги сами несли его, будто по наклонной плоскости, к тому месту, что ещё сутки назад вызывало в нём лишь жгучую ненависть. К очереди добровольцев. К этим людям, чьё слепое рвение он презирал всем пылавшим когда-то сердцем. К этим знамёнам, под сенью которых готовилось новое безумие.
И внутри была не просто тишина – была мёртвая, выжженная пустота. Ни всплеска совести, ни протеста сердца, ни последнего вопля души. Они не воспротивились – они капитулировали. Словно раненый зверь, слишком измождённый для борьбы, его внутренний мир покорно склонил голову перед непреклонной гнетущей действительностью.
Логика была проста и беспощадна, как удар обухом: если все идеалы обратились в прах, а путь к новой жизни наглухо завален звенящей пустотой, то что остаётся? Остаётся лишь выбрать способ своего конца. И смерть от пули – пусть чужая казалась ему теперь куда достойнее, чем медленное, унизительное угасание в грязи и нищете, где последним спутником станут вши. Эта мысль – тяжёлая, металлическая, лишённая всяких оттенков – заполнила собою всё. Вытеснила боль, страх, сомнения. Стала единственной неоспоримой истиной.
Он влился в хвост живой, нестройной цепи. Несколько парней впереди, уловив запах немытого тела и отчаяния, инстинктивно, почти незаметно, отпрянули, создав вокруг него небольшой вакуум. Он прошёл сквозь этот молчаливый кордон брезгливости и встал, уставившись в спину впередистоящему. Очередь двигалась вяло, продираясь сквозь густеющий вечер. Когда же его черёд настал, солнце, как огромный раскалённый шар, уже почти коснулось края крыш, окрашивая город в багровые, похоронные тона.
– Грамоте обучен? – спросил сидевший напротив офицер.
– Да.
– Напиши своё имя и фамилию. Документы есть?
– Потерял.
– Оно и видно. Но чёрт с тобой. Написал? Хорошо. Сейчас иди вверх по улице, там будут казармы – не пропустишь. Там тебя оформят по правилам. Оттуда – только на войну, уяснил? Следующий!
Никита вышел из очереди и направился, как велел офицер, вверх по улице. Мимо него шли радостные парни, уже жаждущие боевого крещения, мужчины, что повидали жизнь, и даже старики. И всем им была уготована одна дорога.
Казармы встретили их безлюдным коридором и резкими окриками старослужащих, которые, не глядя в лица, механически расталкивали толпу, сортируя людей с безжалостностью мясников. «Крепкие – направо, в зал! Дряхлые да хворые – к стене, ждать!» Никиту, к его собственному удивлению, грубо толкнули в сторону «крепких», проигнорировав его запах и измождённый вид – армии требовалось пушечное мясо, а не личности.
Само «оформление» было похоже на конвейер: несколько казённых вопросов, росчерк пера в гроссбухе, и в руку вкладывали листок – жалкая пародия на документы, билет в один конец. Город, прежняя жизнь оставались где-то за этими стенами, теперь недоступные, как воспоминание. Дальше – баня. Горячая вода смывала с тела грязь трёх дней скитаний, но не могла смыть ощущения скверны. Вымытым и анонимным, в грубом, пахнущем кожей обмундировании, он был как все – ещё один винтик в готовящемся к отправке механизме.
Спальный зал оказался огромным, пропитанным потом и табачным дымом помещением, где человеческое море распласталось прямо на голых досках пола. Ни кроватей, ни намёка на уют – лишь стихийно занятые клочки пространства. Он отыскал себе место у стены, в относительной изоляции, где теснились всего трое таких же, как он, потерянных душ.
Ирония судьбы была горькой и абсолютной: ненавистная ему система, против которой он боролся, теперь давала ему кров, пищу и призрачное чувство безопасности. Впервые за долгие дни он был сыт, чист и, что главное, не гоним. Но именно эта обретённая безопасность обнажила внутреннюю пустоту. Физическое истощение отступило, сменившись ясным, леденящим сознанием. Сон бежал от него. Тело, два дня падавшее без чувств от усталости, теперь, отдохнувшее, отказывалось забываться.
В гуле приглушённых голосов, пробивавшемся сквозь темноту, не было и следа дневного угара. Испарился показной патриотизм, испарилась бравада. Остался лишь гулкий, животный страх перед неизвестностью. Из обрывков фраз доносилось одно: «…говорят, пулемёты…», «…австрийцы…», «…как бы не…». Ночью, лицом к лицу с собой, каждый понимал простую страшную правду: они уже не горожане, не рабочие, не крестьяне. Они – солдаты. И их ждёт война.
Но Никиту эта мысль не пугала. Он пересёк некую внутреннюю черту, где страх и сомнения потеряли власть. Его выбор был сделан, точка поставлена. Мучительные вопросы, терзавшие его, наконец отступили, оставив после себя не радость, а странный, мёртвенный покой. Бессонница была единственным, что нарушало эту пустоту. Он лежал, глядя в потолок, пока за окном ночь не достигла своей глубины. И только тогда, когда силы окончательно оставили его тело, а разум сдался, его накрыл тяжёлый, беспробудный сон, похожий на забытье.
Часть 2
Глава 1
Утро ворвалось в казарму не светом, а чужим, раздирающим гортань криком. Голос, лишённый всяких оттенков, вырвал их из забытья, и тёмный зал зашевелился, как потревоженный муравейник. Сначала – с немой, утробной неохотой, будто каждое движение давалось ценой невероятных усилий. Но следующий окрик, острый и унизительный, вогнал в спины электрический разряд страха. Люди засуетились, превращаясь в послушную массу.
Невидимый командир где-то в начале зала металлическим голосом вещал о распорядке. Его слова падали, как капли на раскалённый металл: «Подъём! Одеваться! На построение, а затем – к «бумажным червям»!». Фраза «бумажные черви» прозвучала с такой ядовитой усмешкой, что стало ясно – это не просто чиновник, а нечто презренное, но необходимое. Именно там, в канцелярских недрах, их жизни будут разложены по полочкам, прикреплены к номерам частей и армий, как груз к накладным. Оставалось дождаться, когда кончится эта бумажная волокита, и их отправят «по адресам» – туда, где уже ждали свои «адресаты» с винтовками.
Завтрак был похож на медленную пытку. Люди жевали вязкую кашу с той же скоростью, с какой тонули в своих мыслях. Это раздражало офицеров, которые метались между столами, как ротвейлеры. Их поторапливающие шлепки и тычки были не просто жестокостью – это был ритуал унижения, напоминание о новом статусе. «Шевелитесь, отребье! – рычали они. – Вам выпала честь послужить Царю и Отечеству!». Никто не спорил. Никита, глотая безвкусную похлёбку, мысленно добавил: «А Богу, господа хорошие, мы служить уже не будем. Он, кажется, вышел из игры».
После завтрака офицеры принялись за работу, как пастухи за своё стадо. Толпу разбили на небольшие группки и, подгоняя бранью, повели по длинным коридорам. В кабинетах, пахнущих пылью и чернилами, их ждали «бумажные черви» – трое чиновников в добротных мундирах, с безразличными лицами отшлифованных годами рутины. «Чиновничье племя», – беззвучно отметил Никита. Эти люди решали судьбы, не глядя в глаза. Их будущее было для них просто сводкой данных. Без особых раздумий, они штамповали назначения, раскидывая людей по частям, как мешки с картошкой.
Процесс занял около часа. Офицеры, наблюдавшие за этим с циничным любопытством, выдёргивали из толпы получивших свои квитки и сгоняли их к выходу. На улице, слепящей после полумрака казарм, новобранцев выстроили в шеренгу. К ним подкатывали грузовики – редкие по тем временам машины, вид которых вызывал у Никиты удивление. Офицеры, выкрикивая фамилии, возвращали солдатам их документы – теперь уже с новыми, казёнными штампами – и загружали в кузова по три-четыре человека.
Никита оказался в последней партии. Грузовик, подпрыгивая на колдобинах, вывез их за город, к огромному полевому лагерю, раскинувшемуся под низким небом. Здесь их ждал новый офицер – подтянутый, с жёстким взглядом. Он бегло проверил документы, отдал команду водителю, и, когда машина уехала, обернулся к ним.
– Поздравляю, господа! – его голос прозвучал неестественно громко в тишине поля. – Отныне вы – солдаты Российской Императорской армии! Я – капитан Фёдор Андреевич Стелеков. Ваш командир. С этой минуты ваша воля – это моя воля. Две недели вы будете учиться не жить, а выживать. А после – на фронт. Бить подлого немца. Сейчас – час на устройство. Потом – плац. Обучение начинается сегодня. Мой помощник покажет вам, где вы будете ночевать. Всё!
Капитан Стелеков резко развернулся и ушёл вглубь лагеря. Его место занял молодой человек с напряжённым лицом.
– Младший лейтенант Смирнов. – представился он. – За мной.
Младший лейтенант Смирнов, с подчеркнутой, почти карикатурной выправкой, резко развернулся на каблуках и чётким шагом направился вглубь лагеря. Группа новобранцев послушно поплелась за ним, как стадо.
Лагерь раскинулся перед ними подобием призрачного города. Центральная улица, пыльная и прямая, пронизывала его насквозь, выполняя роль главного проспекта. По обеим сторонам, в строгом геометрическом порядке, стояли палатки – от маленьких, одиночных, до крупных, похожих на бараки. Сеть протоптанных тропинок создавала иллюзию кварталов, и с высоты это скопление холста и подпорок, должно быть, напоминало уездный городишко, выросший за одну ночь.
Пройдя с полсотни шагов, Смирнов вновь замер, с той же театральной резкостью повернулся и свернул в один из «жилых кварталов». Здесь, в стороне от главной магистрали, стояла огромная палатка, способная вместить полсотни человек.
– Вот ваш новый дом. Располагайтесь, – бросил он безразличным тоном. – На этом я откланиваюсь.
Едва офицер скрылся за углом, как солдаты ринулись обустраиваться. К всеобщему удивлению, внутри обнаружились складные железные койки, выстроенные вдоль стен. Минут за десять каждая из них обрела своего временного хозяина – на две недели, которые вдруг показались вечностью.
Никита, у которого за душой не было ничего, кроме казённой формы, занял ближайшую свободную койку, переоделся и вышел наружу. Ему претила мысль о бессмысленных разговорах, о необходимости хоть как-то коммуницировать с этими людьми. Глубокое разочарование во всём и вся погрузило его в состояние почти полного отчуждения. Окружающие, чувствуя его замкнутость, отвечали взаимным невмешательством.
Солнце палило немилосердно. Воздух дрожал от гула сотен голосов, перемешанных с резкими командами офицеров. Армейская жизнь била здесь таким же лихорадочным ключом, как и жизнь в столице, – та же суета, только подчинённая иному ритму. Но Никите было всё равно. Он бесцельно бродил вдоль бесконечных рядов серо-бежевых палаток, просто убивая время до неминуемого построения.
Внутри у него была мёртвая тишина. Он шёл, дышал, двигался – но ощущал себя уже умершим, чья плоть по какой-то нелепой ошибке ещё не получила извещения о прекращении своих функций. Возможно, это и есть то самое смирение, которое нисходит на человека в последние мгновения, когда он с холодной ясностью понимает: следующий вдох может стать для него итоговым.
И вдруг – ветер. Едва уловимый порыв, ласково коснувшийся его вспотевшей кожи. Тело отозвалось короткой, блаженной дрожью, и эта простая, ни к чему не обязывающая ласка природы едва не вызвала на его лице подобие улыбки. Но мышцы лица, привыкшие к маске отрешённости, судорожно дёрнулись и вновь застыли, вытянув губы в тонкую, безжизненную линию. «Как бы ты себя ни ломал, жизнь всё равно пробивается сквозь щели», – с горькой иронией подумал Никита.
Ровно через час взвод, выстроенный на подобии плаца, стоял под палящим солнцем. Капитан Стелеков, не утруждая себя пространными речами, кратко скомандовал: «К ящикам! Винтовки – и на стрельбище!»
Все отдавали себе отчёт в тщетности этой затеи. Превратить сборище вчерашних гражданских в солдат за две недели – утопия. И капитан, судя по всему, понимал это лучше других. Его задача была простой и циничной: вбить в руки ощущение винтовки, в память – механику выстрела. Не научить воевать – но дать им первичный навык. Дальше – хоть трава не расти. На фронте разберутся. Или не разберутся.
Занявшие свои позиции солдаты по команде открыли огонь. Итогом первого залпа стали четыре поражённые мишени; остальные выстрелы ушли в молоко. Статистика удручала. Тут же была придумана и утверждена система «стимулов»: каждый промахнувшийся солдат должен был за свой промах обежать лагерь, после чего вернуться и совершить ещё один выстрел. Если опять мимо – повторить «упражнение». Церемониться с «жалкими холопьями» чиновникам в сединах ой как не хотелось. Собственно, поэтому солдаты были обречены на бессмысленную рутину физических нагрузок, вряд ли способных дать вменяемый результат.
К закату каждый из взвода совершил этот крестный ход минимум пятнадцать раз. Ноги подкашивались, в глазах стоял туман из пота и унижения. Единственным утешением служили казённые фразы лейтенанта Смирнова о «закалке духа», которые он бросал, самодовольно прохаживаясь вдоль строя.
Когда наконец прозвучала команда «Отбой!», многие просто рухнули на землю, не в силах держаться на ногах. Но отдых длился мгновения – их поднимали грубыми пинками сапог. Офицеры, чьё дворянское происхождение ограждало их от подобной усталости, смотрели на солдат с брезгливым презрением.
– Слабачье! – рычал Стелеков, его лицо было похоже на налитый кровью мясной мускул. – Никуда не годные твари! На фронте вы сдохните в первую же атаку – за словом в карман не полезу! Но хоть один толк от вас будет: прикроете пулемётным огнём тех, кто умеет воевать! Завтра – снова здесь! А теперь – с глаз моих долой!
– Не слышите, сволочи? Марш в казармы! – залихватски крикнул Смирнов, опьянённый властью до такой степени, что назвал брезентовые палатки казармами. Но, встретив ледяной взгляд Стелекова, тут же съёжился, будто получил удар хлыстом.
Обратный путь сопровождался звуковой картиной, которая согревала измученные души: из-за угла доносились сдавленные крики и отборный мат – Стелеков «воспитывал» своего подчинённого.
В палатке уставшие солдаты повалились на койки, но злоба в них ещё кипела, и держать эмоции в себе было невмоготу.
– С такими учителями нам и на тот свет недолго, – хрипло произнёс самый молодой.
– Прямиком в яму, – мрачно поддержал другой.
– А чего вы хотели-то, а? На войну обученные есть, а мы так, для количества, – подал голос самый старший, сорокалетний бородатый мужик с проседью. – Уж я-то знаю. У меня брат в русско-японскую воевал, профессиональный вояка. Таких, как мы, они пушечным мясом называли, годных лишь для первых трупов.
– Хватит пораженческие песни петь! Родину защищать пришли! – нашёлся патриот.
– Кто пришёл, а кого забрили, – мрачно заметил детина с дальней койки. – Меня из-за сохи взяли.
– Значит, трус! – парировал патриот.
Монолог прервал Никита, которого эта болтовня вывела из оцепенения.
– Кончайте базар! Завтра снова этот ад, а вы языками мелете! Спать!
В палатке воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием.
– Надо же, немой заговорил, – ухмыльнулся детина.
– А мы уж думали, ты без голоса.
– И чего молчал?
– А чего трещать-то понапрасну? Спите, – злобно ответил Никита.
– А и прав, немой, чего воздух-то зря сотрясать. Давайте, братцы, спать! – авторитетно заключил крепкий мужчина лет двадцати пяти, чьё слово уже имело вес. – Рот на замок и отдыхать.
Никто не воспротивился. За несколько минут в палатке воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием измотанных мужчин.
Последующие две недели превратились в однообразный кошмар, выстроенный по законам абсурда. Солдат методично выматывали бессмысленной муштрой, словно готовили не к окопам и штыковым атакам, а к возвращению в родные деревни. Командованию была глубоко безразлична их боевая готовность – важен был лишь сам факт, что ещё несколько десятков тел можно будет бросить в топку войны.
Никита существовал в состоянии глубокого отчуждения, стараясь максимально дистанцироваться от окружающей действительности. Единственным проблеском стал неожиданный контакт с Кириллом – тем самым солдатом, чей природный авторитет признавали все. В редкие минуты вынужденного общения они касались социалистических идей, и Никита с удивлением обнаружил в собеседнике родственные взгляды. Однако высказывался он крайне осторожно, постоянно опасаясь доноса – слишком уж хрупким было его положение в этом коллективе.
Кирилл же, напротив, говорил смело и открыто, бросая вызов то равнодушным, то непонимающим взглядам сослуживцев.
Ирония заключалась в том, что их мировоззрения оказались поразительно схожи. Никита даже удивился, почему этого человека не было в их подпольном кружке. Но эти разговоры были для него не более чем способом убить время – прежние идеалы он давно похоронил в себе.
С остальными обитателями палатки Никита сохранял ледяную дистанцию, что однажды привело к взрыву. На четвертый день к нему привязался рослый детина по имени Макар, засыпая его глупыми и бестактными вопросами. Сорвавшись, Никита ударил его – и мгновенно пожалел: кость едва не треснула от удара о железную челюсть обидчика. Разъярённый Макар был готов растерзать его, и только общими усилиями солдатам удалось предотвратить кровавую развязку. По законам солдатской «справедливости» Макар получил право на ответный удар.
Его кулак обрушился на Никиту с такой силой, что сознание померкло. Когда он очнулся, то обнаружил, что инцидент исчерпан – отныне к нему относились с холодной отстранённостью, обращаясь лишь по необходимости.
В день отправки на фронт капитан Стелеков построил взвод на плацу для прощальной речи.
– Завтра, солдаты, вы отправитесь защищать Отечество! – выкрикнул он заученные фразы. – К сожалению, моя служба требует присутствия здесь. С вами будет другой офицер. Желаю удачи!
Стелеков быстро ретировался, оставив за собой гробовую тишину. Лейтенант Смирнов, дождавшись, когда начальник скроется из виду, сделал шаг вперёд – теперь он был старшим по званию среди оставшихся.
Последнее слово капитана Стелекова повисло в воздухе, не встретив обратного отклика. Он развернулся с казённой чёткостью и зашагал прочь, оставив после себя не просто тишину – вакуум, в котором двадцать человек остались наедине со своим завтрашним днём. Лейтенант Смирнов, выждав паузу, пока фигура начальника не растворилась в лагерной дали, сделал шаг вперёд. Теперь он был старшим – и это мимолётное превосходство наполнило его ядовитой значимостью.
– Сильно повезёт, – его голос прозвучал хлёстко и громко, – если кости хоть одного из вас предадут земле на родине. Худшего пушечного мяса я в жизни не видывал, будь я проклят. Как изволил сказать капитан, завтра вас передадут капитану Норыжкину. Он вас отыщет. На этом – свободны.
Строй, сразу же дрогнул и начал распадаться, едва Смирнов скрылся за углом. Но облегчения не наступило. Воздух стал густым и тяжёлым, как свинец. Завтра. Это слово висело над каждым, лишая последних намёков на оптимизм. Даже те, кто ещё утром кричал о «благородной жертве», теперь молчали. Двадцать человек побрели обратно в палатку, и привычное пространство, ещё вчера полное ссор и смеха, превратилось в предбанник смерти. Кто-то шептал молитвы, обращаясь к небесам, которые уже не отвечали. Кто-то курил, вглядываясь в пустоту так пристально, будто пытался разглядеть в ней своё будущее. Никаких шуток. Никакого братства. Только тихий ужас.

