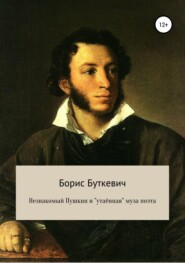 Полная версия
Полная версияНезнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта
Но некоторые старые слуги наши, до смерти благоговейно преданные Анне Ивановне, уверяли меня, что это – гнуснейшая клевета, что ни прежде, ни после она до самой смерти не оскверняла брачного ложа, а если позволяла себе кокетство, то потому, что до глубины души оскорбленная в своей любви и женском достоинстве охлаждением и явной изменой мужа, она кокетством и ревностью надеялась возвратить себе любовь его. Как бы то ни было, но только супруги расстались навеки и, не ограничиваясь этим, дед мой отрекся от обеих дочерей, признавая своим только сына.
Положение Анны Ивановны с тремя детьми и без всяких средств к жизни было поистине ужасное; своего у нее ничего не было, а дед мой о ней и дочерях и слышать не хотел. На их счастье вскоре вступил на престол император Павел, который по просьбе теток Анны Ивановны пожаловал ей маленькое имение в Лужском уезде…
… У нее росли не две барышни, а два земных ангела, две сироты живых родителей, неизвестно за что отверженные отцом и всем миром. С детства, не знавшие ничего, кроме позора и горести, приобщенные к страданиям нежно любимой матери, они жили не для себя, а для других, и если не могли дать этим другим счастья, то довольствовались и тем, что облегчали их страдания.
Император Павел был еще милостивее к моему деду, чем покойная императрица; вскоре по своем вступлении на престол он произвел его в генералы и назначил шефом Белозерского пехотного полка… (а незадолго до смерти – Б.Б.) успел произвести его в генерал-лейтенанты… Смерть Алексея (сына, в 1812 году – Б.Б.) прекратила все отношения деда ко второй жене; о дочерях же своих от нее, как я уже сказал, он не хотел и слышать.
Несколько лет спустя, почувствовав приближение смерти, Анна Ивановна через посредство знакомых стала умолять деда моего посетить ее на смертном одре и выслушать ее предсмертные признания. Она клялась в своей невиновности и поручала ему детей своих; но дед остался неумолим и не согласился даже присутствовать на ее погребении. По кончине ее (1816– 1817?гг. – Б.Б.) он взял себе пожалованное ей императором Павлом имение; дочери его остались без крова и куска хлеба, но безропотно и беспрекословно подчинились родительской воле.
Не знаю, где провела Софья Александровна первые годы своего горького сиротства, но впоследствии она жила в Троицко-Сергиевской лавре у старшей сестры своей Татищевой, там же скончалась. Младшая сестра Вера Александровна, похоронив мать и ожидая изгнания из дома, сама из него скрылась неизвестно куда». Прервем здесь на время рассказ Маевского, писавшего свою хронику в конце 1870-х годов на основе воспоминания родных, близких, друзей и старых слуг, чтобы предоставить слово современнику и, в какой-то мере, участнику этих давних событий.
Чуть больше века назад в Москве вышла интереснейшая в мемуарном отношении и теперь очень редкая книга под названием: «Жизнь Александра Семеновича Пищевича, им самим писанная. 1764 -1805 годы». Ее автор – сын сербского помещика, поступившего на русскую службу и дослужившегося до генеральского чина, был молодым кавалерийским поручиком, когда в 1788 году познакомился с гусарским подполковником Александром Дмитриевичем Буткевичем и его очаровательной супругой. Спустя четыре года они снова встретились в Саратове, где стоял в то время карабинерский полк под командой Александра Дмитриевича, уже полковника, который и уговорил Пищевича пойти к нему командиром эскадрона. Здесь же, в Саратове, продолжилось знакомство Пищевича с супругой полковника, приведшее, как он пишет, к взаимной, но не более, склонности и вызвавшее, тем не менее, бурную ревность Буткевича, немедленно удалившего из Саратова молодого поручика вместе с его эскадроном.
Дальнейшие встречи Пищевича с Анной Ивановной носили случайный и невинный характер, пока в 1796 году, в бытность Александра Дмитриевича в Польше, не приехал он в Петербург за новым назначением и временно не поселился в доме генерал-лейтенанта Турчанинова, приятеля своего отца, находящемся рядом с домом Буткевичей по Большой Садовой улице. Далее предоставим слово самому Пищевичу, повествование которого, написанное, вероятно, не позднее 1810-х годов, удивительно живо передает все своеобразие и колорит жизни и нравов того времени.
«Я ничего еще не сказал о продолжении моего знакомства с госпожою Буткевичевою, которую я в сем городе нашел; удовольствие ее было велико меня увидеть и прежняя наша приязнь возобновилась; муж ее тогда находился в Польше. – Вот женщина, с которою в другой раз при сем случае начинались мои изъяснения в чувствуемой мною к ней любви; и при сем разе она повела меня по всем степеням волокитных правил, дабы тем более дать цену удовольствию мне приготовляемому.
Наконец, в один вечер возвратились мы из театра, в котором играна была прекрасная итальянская опера: Утешенные любовники. Имея преисполненные воображения и всяко-разной чувственности сердца наши; зрение и слух наш были насыщены, но в желаниях наших оставалась некая пустота, которую итальянская пиеса лишь привела в вящщее волнование; вкусный ужин и приятные напитки придали и более огня к чувствам нашим. – По окончании стола госпожа Буткевичева вошла в прекрасно отделанный боскет, освещенный искусственным огнем, который, казалось, только ради того горел, чтобы стыдливость женскую скрыть, она прилегла на софу, я сидел возле ея; мы говорили о многом, до нашей взаимной склонности касающемся, и наконец, истощив все слова, проводили несколько минут в забытии, причем госпожа Буткевичева принимала мои поцелуи с горячностью распаленной женщины. – После сего дня мы провождали время самым приятным образом: прогулки, театр, концерты нас занимали попеременно, а впрочем, возвращаясь домой, госпожа Буткевичева находила свое удовольствие, имея меня безотлучно при себе; для чтения, до которого госпожа Буткевичева была великая охотница, имели мы так же всякий день несколько часов отдельных; она имела ум изостренный и сведуща была во многом. Она мне нередко признавалась, что такого рода жизни еще никогда не испытывала и потому, положив пользоваться оною во всем пространстве, редко очень посещала своих знакомых, а если и делала это, то единственно дабы только соблюдать благопристойность».
Подытоживая свои столь сокровенные воспоминания тех дней и говоря об отъезде из столицы в конце июля 1796 года он пишет: «Простившись с госпожою Буткевичевой, с которой я проводил целый день и часть ночи, я оставил Петербург…»
Спустя год мы снова видим его в столице, но на этот раз он ни словом не вспоминает госпожу Буткевичеву, а рассказывает о своей женитьбе на некоей госпоже Митендорф, с которой он после свадьбы, подав в отставку, уехал в свое белорусское имение17.
После знакомства с записками Пищевича становится очевидным, сколь наивны и далеки от истины суждения Маевского о целомудрии и верности супружескому долгу Анны Ивановны Буткевич. Но не будем строги к ней. Ведь это было время, когда сама Екатерина Вторая фактически утверждала и демонстрировала свободу нравов, условность супружеских отношений. И уж, безусловно, сам Александр Дмитриевич очень мало подходил на роль «хранителя домашнего очага». Главное же для нас здесь то, что основания сомневаться в своем отцовстве по отношению к обеим дочерям у него были, и, видимо, достаточно обоснованные.
Теперь немного поразмышляем. Известно, что старший сын Александра Дмитриевича и Анны Ивановны – Алексей родился в 1785 году. Точных дат рождения Софьи и Веры мы не знаем. Окончательный разрыв между супругами, вследствие которого Анна Ивановна была вынуждена оставить вместе с детьми дом мужа и ютиться у родственников, произошел, видимо, в конце 1796 года, когда Александр Дмитриевич вернулся из Польши и привез с собой свою третью жену Марию Семеновну Бинкевич. Маевский же пишет, имея в виду примерно 1797-1798 годы, что у Анны Ивановны росли в то время «не две девушки, а два ангела…». По тому времени понятие девушка говорило о возрасте не моложе 10 – 12 лет.
Таким образом, время рождения Софьи и Веры с большой долей вероятности может быть отнесено к 1786-1788 годам, то есть вслед за рождением сына. Далее, как мы помним, Александр Дмитриевич своего «главного» соперника, которого (как намекает Маевский) он считал подлинным отцом своих дочерей, оказавшегося в спальне жены, вполне натурально выкинул за окошко, и хотя мемуарист не раз говорит о большой физической силе своего деда, но, тем не менее, надо полагать, что соперник был не очень дороден и силен. Любопытна его фраза: «весьма впоследствии известного генерала, но кого именно – не упомню, а потому и назвать не смею».
Нет сомнения, что имя этого весьма известного генерала Маевский прекрасно помнил, но назвать действительно не посмел. Продолжая наше «расследование», обратим внимание и на следующее: Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года, а менее чем через месяц, уже 4 декабря Павел I в числе фактически первых своих указов подписывает именной Указ Сенату о пожаловании бригадирше Анне Буткевичевой 300 душ мужского пола крестьян в Лужском уезде, с землею и угодиями. Маевский объясняет это просьбами теток Анны Ивановны, но не называет их, а говорит как-то вскользь, между прочим. Читатель, конечно, уже догадался о сути нашего предположения: столь бесцеремонно выброшенным в окошко любовником Анны Ивановны и отцом ее дочерей был, в ту пору еще наследник – цесаревич, Павел Петрович. Но чем же тогда объяснить его столь милостивое отношение к Александру Дмитриевичу, которого он за четыре года произвел из бригадиров в генерал-лейтенанты?
Как ни парадоксально, но именно такие поступки были в духе Павла I. На русском престоле мало было таких загадочных по своему характеру личностей, как Император Павел, который мог совмещать в себе крайнюю жестокость с чрезмерным великодушием и щедростъю, беспардонную грубость и хамство – с изысканным благородством и рыцарством. Недаром же Пушкин пожаловал его титулом романтического императора! Поэтому вероятно, что именно он мог понять и воспринять как должное яростный взрыв ревности оскорбленного мужа (такого же дворянина, как он сам) и не только не затаить зла, но, напротив, проникнуться к нему симпатией и уважением, а в дальнейшем, не раздумывая, щедро обеспечить своих внебрачных детей.
И здесь серьезным подтверждением нашей гипотезы служат приведенные выше воспоминания М.В. Толсгого (конечно, за исключением его ошибочного предположения, что Вера Молчальница была дочерью того же Павла I и Анны Лопухиной). Если почтенному графу не изменила память и в поминальнике Веры Александровны действительно первые два имени были Павел и Анна, а вторые – Александр и Мария, которые она, в их последовательности, объясняла как имена родителей и крестных, то понятны и ее слова о наложении обета молчания за грехи ее и ее покойных родителей. Как мы знаем, грехов и у Павла I, и у Анны Ивановны было достаточно. Остается неясным, кто же были Александр и Мария – крестные отец и мать Веры Александровны? Однозначный ответ можно найти только в церковных метрических книгах, где должна быть запись о ее рождении и крещении, но в какой это книге, какой церкви и за какой год? Помочь здесь может лишь случай, случайная находка. А нам опять остается сделать предположение.
В те времена среди людей, близких ко двору, существовал обычай – просить в крестные кого-либо из царствующей фамилии. Считалось это особой честью. В очень содержательном по информативности исследовании историка Валишевского о Павле I много внимания уделено сложным взаимоотношениям императора с его супругой Марией Федоровной.
Постоянно оказываясь одной из сторон пресловутого любовного треугольника, императрице для сохранения видимости семейного счастье не раз приходилось выполнять «роль поверенной между мужем и предметом его увлечения». А если так, то, наверно, она не отказывала мужу в его просьбе стать крестной матерью того или другого не безразличного ему младенца. В этих случаях крестным отцом мог быть и их юный сын Александр.
Вся эта альковная история находит косвенное подтверждение и в визите, который нанес Вере Молчальнице Николай I, человек, как известно, рационального мышления и не страдающий излишней сентиментальностью. Его продолжительная беседа с ней и почтительный поцелуй руки – говорят сами за себя. Так же понятным становится и то, что Маевский, конечно, знавший об этом царственном посещении своей тетки, не счел возможным упомянуть о нем в своей хронике, к еще одному отрывку из которой мы теперь вернемся. Вспоминая себя в 7-летнем возрасте, Маевский пишет:
«Так проходило мое детство. Тетка моя проводила лето в своем имении с тех пор, как муж ее был назначен новгородским губернатором18; сам он приезжал в субботу и уезжал в понедельник; по-прежнему они бывали у нас в воскресенье, а мы у них по четвергам. В одно из воскресений тетка или ее муж – не помню, рассказывали, что полиция донесла губернатору, что в лесу, в Валдайском уезде, в совершенно уединенной келье, вдали от всякого жилья, проживает какая-то странница.
Когда вошли к ней и потребовали ее документы, она бросила в топившуюся печь целую связку бумаг; на расспросы она отказалась отвечать, но написала, что зовут ее Верой Александровной и что говорить она не может, потому что наложила на себя обет молчания. Ее доставили поэтому в Новгород и, полагая, что имеют дело с сумасшедшею, подвергли освидетельствованию в губернском правлении; там на вопрос губернатора, кто она, она четким полууставом и славянскими буквами написала: Я прах, я червь, ничто, земля, Перед Богом же, что ты, то я. Не добившись ничего, ее для испытания отдали в Колмовский дом умалишенных; там она рисовала священные картинки, писала своим четким, красивым полууставом молитвы и разные изречения из священных книг. В Колмове, как и в губернском правлении, никто не слыхал ее голоса…
На другой день утром или в тот же самый вечер – не помню, мать позвала меня к себе и, поставив перед образом, торжественно объявила, что желает открыть мне великую семейную тайну. «Помнишь ли ты, Николаша, – спросила она, – что тетенька вчера рассказывала о той страннице, которую нашли в келье в лесу?» По моей глупой физиономии видно было, что я ничего не понимаю и не помню. Она повторила мне рассказ и, убедясь, что я его понял, сказала: «Помни, Николай, помни это, как завет мой, и не забывай во всю жизнь твою: эта странница – твоя родная тетка, а моя сестра Вера Александровна»…
Тетка моя (Е.А. Зурова – Б.Б.) сдержала слово: Вера Александровна была переведена в новгородский Сырков монастырь. Никакие убеждения не могли заставить ее произнести хотя бы слово… Слух о ее подвижничестве сделал ее предметом особого почитания как в монастыре, так и за его стенами; к ней приходили толпы богомольцев, прося ее благословения; одних она наделяла сухариками, которые сама сушила из монастырского хлеба, другим, особенно излюбленным, давала собственноручные записочки с изречениями из священного писания. Тихо и спокойно шла ее жизнь и только однажды была прервана болезнью – горячкой; в бреду она говорила, рассказывала про свое детство на берегу Полы, про богатство своего деда (отца Александра Дмитриевича – Б.Б.).
Прошла болезнь, и уста Молчальницы снова закрылись, и уже навеки… Многие ее почитатели имеют у себя ее портрет, снятый уже после смерти; когда и я, при обязательном посредстве матери Лидии, игуменьи новгородского Звериного монастыря, получил копию этого портрета, то был поражен: в полумонашеском оригинальном одеянии в гробу лежит как бы моя мать. Немало труда стоило мне убедить себя, что это обман чувств; но с тех пор портрет Веры Александровны стал мне еще более дорог – он заменил мне портрет моей матери, которого у меня не было, так как она ни за что не хотела позволить срисовать себя».
Нужно отметить, что Маевский уже второй раз в своих семейных воспоминаниях применяет этот, так сказать, «портретный способ» подтверждения кровного родства в своем семействе. Причем именно в тех случаях, когда это родство, как он, вероятно, думал, могло вызвать сомнения у пристрастного читателя. Так, рассказывая о дочери графа Стройновского Ольге, родившейся, когда графу было 73 года, а его жене Екатерине Александровне 24, он пишет: «Но эта всеобщая любимица, портрет отца, с рождения носила какой-то странный отпечаток дряхлости: поставив рядом портреты отца и дочери, в самом юном ее возрасте, зритель поражался их сходством…» То же, но несколько в ином контексте, он повторяет, как мы видим, говоря о сходстве своей матери с посмертным портретом Молчальницы.
После посещения деревни Сырково и осмотра остатков тамошнего монастыря я побывал в Новгородском историческом музее. В его фондах удалось разыскать два документа, касающихся Веры Александровны.
Первый, на гербовой бумаге, составленный 11 апреля 1841 года, гласил:
«По Указу Его И.В. и пр. Новгородская духовная консистория слушала отношения: Новгородского Сыркова Девичьего монастыря игуменьи Маркеллины и Господина гражданского и военного губернатора следующего содержания: Графиня Орлова-Чесменская просит Его превосходительство содержащуюся за неимением письменного вида в Новгородском Колмовском заведении девицу Веру Александровну, лишенную дара слова, отдать для помещения на ее счет, впредь до окончания об ней дела, в Сырков монастырь, в ведение тамошней игуменьи, которая на принятие ее изъявила, с тем, что в случае востребования девицы этой она в то же время будет Представлена и без разрешения из монастыря никуда не отпускается. Губернское правление согласно изъявленному графиней Орловой желанию в 14 число сего марта месяца заключило: Девицу Веру Александровну отдать на попечение Ея Сиятельства помещением в Сырков монастырь, о чем уведомить Новгородский приказ общественного призрения, в заведении которого находится ныне Вера Александровна…
Свято-духовского монастыря протоирей Гаков Лавров. Секретарь Шабловский».
Второй документ представлял собою небольшой плоский сверток, размером чуть меньше нынешнего конверта. На внешней его стороне написано: «Автограф Веры Молчальницы. Передан в Губмузей Ю.А. Бубновой 4 декабря 1924 года. Ею в свое время взят в Сырковом монастыре у монахини, бывшей келейницею Веры Молчальницы».
Должен признаться, что разворачивал я этот сверток дрожащими от волнения и нетерпения руками. Внутри, дважды обернутый в ветхую серую бумагу, находился прямоугольник плотного картона размером 8x13 сантиметров. С обеих сторон наклеены на этот картон листики белой бумаги с карандашным текстом. Все это оклеено по периметру узким кантом из старинной мраморной бумаги, в виде двусторонней рамки. Цифрами помечены 1-я и 2-я стороны. Текст написан удивительно четким, красивым полууставом, на церковнославянском языке и, насколько я мог разобрать, содержит фрагмент какой-то молитвы или духовного нравоучения. Внизу второй стороны аббревиатура из пяти букв: строчная «д», потом заглавная «Б» и далее строчные «т», «ч», последняя – заглавная «В». Расшифровывается без особого труда: «девица Буткевич Вера». Видимо, такими записочками и одаривала Молчальница своих избранных почитателей.
Долго сидел я тогда в тишине и полумраке каменных сводов одной из комнат Новгородского кремля, держа в руках, еще и еще раз всматриваясь в эти маленькие странички – частицы давно ушедшей жизни. Не мог и не хотел прервать удивительно реальное ощущение живой связи с минувшим временем.
Вся эта таинственно-грустная и не до конца распутанная история, безвозвратно затерянная в прошлом, вряд ли имела бы сегодня объективный исторический интерес, если бы, как я говорил выше, не вплелась на определенном своем этапе в канву жизни Пушкина. Когда же и почему это произошло? Повторим вкратце давно известные факты. Три года, с 1817 по 1820, Пушкин жил в семье родителей в Старой Коломне, в доме вице-адмирала Клокачева. Только сто метров отделяли этот дом от дома генерала Л.Д. Буткевича.
Между ними, вплотную с домом Буткевичей, стоял дом, принадлежавший графу Ивеличу – сослуживцу и давнему другу Александра Дмитриевича. Супруга Ивелича, Надежда Алексеевна, приходилась дальней родственницей матери Пушкина по своему отцу, генералу и богатому горнозаводчику А.Ф. Турчанинову19 Дочь Ивеличей Екатерина Марковна всю жизнь была своим человеком в семье Пушкиных, была очень близка как с Надеждой Осиповной, так и, особенно, с Ольгой Сергеевной. Обе они постоянно бывали в гостях у Ивеличей.
Часто можно было встретить здесь и юного Пушкина. Они именовали Екатерину Марковну «дорогой племянницей», «милой кузиной». Одновременно Екатерина Ивелич, по словам Маевского, была самой задушевной подругой его матери Любови Александровны и ее двух сестер: Екатерины, в замужестве графини Стройновской, и младшей Татьяны – дочерей Александра Дмитриевича от третьего брака. Все это позволяет думать, что перипетии семейной жизни трех семейств не были тайной ни для кого из членов этого маленького общества. Тем более, что происходило все это в Старой Коломне, провинциальной окраине столицы, где каждый знал каждого и все о каждом. Ну, а какие же события, связанные с Верой Александровной, уже много лет к этому времени жившей с сестрой и матерью в имении, подаренном им Павлом I, могли волновать тогда коломенское общество?
Маевский пишет, что Анна Ивановна умерла спустя несколько лет после смерти сына Алексея в 1812 году. В обиходном понятии выражение «несколько лет» подразумевает не год или два, а лет пять – шесть. Учитывая, что в 1818 году имением Анны Ивановны уже владел Александр Дмитриевич, можно считать, что ее смерть приключилась в конце 1816 – начале 1817 года. Подтверждением этому служит скандальная история расстроившейся тогда же свадьбы Екатерины Буткевич с молодым графом Татищевым, которому отец, генерал-аншеф Николай Алексеевич Татищев, возмущенный поступком Александра Дмитриевича с дочерьми Анны Ивановны, накануне свадьбы запретил и думать об этой невесте, ставшей, спустя год, женой семидесятилетнего Стройновского.
Другим событием, конечно, вызвавшим в то время пересуды в коломенском обществе, была еще одна свадьба. В 1818 году живший здесь же в Коломне молодой писатель и издатель журнала «Северный наблюдатель» Петр Александрович Корсаков женился на Александре Ивановне Буткевич, вероятно, племяннице Александра Дмитриевича (по его Казанской родне), гостившей у него в Петербурге. Вот этой своей племяннице, как удалось выяснить, и отдал Александр Дмитриевич в приданое имение в Лужском уезде, забранное им после смерти Анны Ивановны, заставив тем самым Софью и Веру уйти из дома и искать другое убежище.
Этот поступок Александра Дмитриевича, к тому времени почти разорившегося, был не столько проявлением родственных чувств к новобрачной племяннице, сколько демаршем перед осудившим его светским обществом, кругом родных и знакомых. Обстоятельство же, позволившее ему эту щедрость, заключалось в уже решенном вопросе о выдаче дочери Екатерины замуж за миллионы Стройновского.
Все эти бурные события, конечно, были известны Пушкину, а принимая гипотезу о его увлечении Катериной Александровной, и далеко не безразличны. Не могла быть безразличной ему и свадьба Корсакова, старшего брата его лицейского товарища и друга Николая Александровича, умершего в Италии в 1820 году. С Петром же Александровичем, кроме просто знакомства, его связывал и издаваемый последним журнал, где во второй половине 1817 года были напечатаны пять стихотворений юного поэта. Много позже он писал бывшему тогда цензором Петру Александровичу: «При первых моих шагах на поприще литературы вы подали мне дружескую руку…» Мы ничего не знаем о жизни Веры Александровны в период с 1818 по 1834 год, когда она впервые, бездомной странницей, появилась в Валдайском уезде. Ей было тогда уже 46 лет. Неизвестно, где и как провела она целых 16 лет, то есть все зрелые годы своей жизни.
В те времена женщина, никогда не бывшая замужем, не стоявшая под венцом имела право, так сказать юридически, именоваться девицею. Я говорю обо всем этом потому, что думаю, что один из эпизодов тех неизвестных нам лет ее жизни нашел свое отражение в творчестве Пушкина. Вспомним первые и не имеющие продолжения страницы начала его повести или романа, условно называемого «На углу маленькой площади». Действие происходит в столь близкой его сердцу Старой Коломне.
Немолодая, но еще прекрасная женщина (она казалась лет 36) Зинаида (в плане повести Вера) принимает своего любовника Валериана (имя весьма редкое в то время). Их разговор:
–Который это Горецкий, не князь ли Егор?
–Совсем нет. Князь Егор давно умер, это брат его князь Павел, мерзавец отъявленный.
–А, знаю, которого тому лет 15 побили палками?
–Совсем нет, он просто получил пощечину и не дрался.
–Так ты очень дорожишь мнением князя Павла, мерзавца отъявленного, и благосклонностью жены его, дочери парикмахера, накравшего миллионы?
Известно, что Пушкин всегда был точен и редко писал случайно. Известна удивительная многоплановость, многослойность его мыслей и образов. Но известно и то, что он всегда тщательно, когда считал нужным, вымарывал из написанного все, что отражало касающиеся его, реальные жизненные ситуации, моменты биографии.



