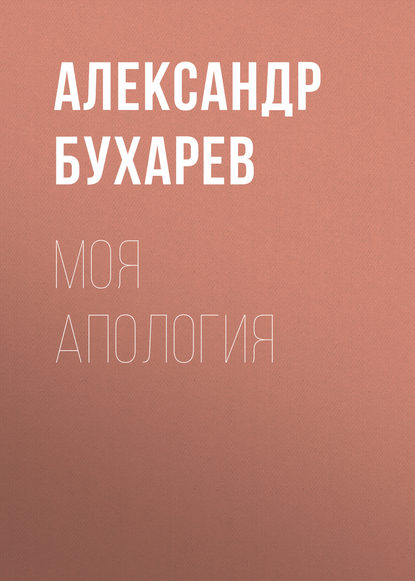 Полная версия
Полная версияМоя апология
«Автор допускает, – говорит обо мне духовный критик, – даже инстинктивное, бессознательное со стороны человека осуществление этого закона». – Это не более как странное недоразумение! – Я, по Евангелию, признаю Христа Бога-Слово светом, просвещающим всякого человека, грядущего в мир, светом, и во тьме светящимся (Иоан. I, 5, 9), а Дух Его – разносящимся во всю землю (Апок. V, 6). В силу этого и допускается мною возможность в людях инстинктивных, безотчетных ощущений или предощущений Христовой истины и благодати, даже в глубоких ее тайнах; и так как это относится к Христову же свечению, то, по моему убеждению, и требуется от веры во Христа собирать все подобные разрозненные лучи Христова свечения в сосредоточенный свет одной, отчетливо разумеемой и все уясняющей, истины Христовой (этого предмета я уже имел случай выше касаться отчасти). Это внушается мною, между прочим, и для того, чтобы чрез выяснение и отнесение к открытому Христову свету подобных движений и выражений чутья к истине не давать никому коснеть в их безотчетности и удерживать под их прикрытием всяческие свои фальши (см. с. 472). Но и эти проявления инстинктивного чутья истины представляются у меня совершающимися правильно в людях, не иначе как разве свободная любовь последних к истине не перетолковывает самого их чутья к разным сторонам истины (см. с. 498). Что же тут остается в пользу тяготеющего на нас необходимого закона – возглавления всего Агнцем? Иное дело – признавать обоснование всего мира и его судеб на тайне Агнца Божия, самозакланного за грехи мира, так что вся эта темная, греховная сторона мира всех времен должна быть разумеема отяготевшею на Христе, а вся лучшая, духовно-живая сторона принимаема за сияние или только отсвет и отображение того же Света, просвещающего всякого человека; хотя бы этот отсвет или отражение Солнца правды проходили иногда столько и таких сред нравственных, сколько и какие среды физические проходит отсвет видимого солнца, отражающийся, например, в реке, а от нее в стекле раскрытого окна, а отсюда в зеркале, а от зеркала падающий на случившуюся металлическую дощечку и уже отсюда на чье-либо лицо (с. 590). В этом открывается слава Христова, наполняющая всю землю, но зато и делающая нас страшно ответственными в случае нашего бесчувствия и невнимания к этой Христовой на земле славе, с восторгом воспеваемой самими небожителями (см. с. 141–148). Тут тоже есть возглавление всего Агнцем, но только верных, вводящее в самое Его тело – Церковь, а врагов низлагающее под Его ноги. – И совсем иное дело – измышлять с моим критиком какой-то фатальный, тяготеющий на нас с силою безостановочной необходимости закон невольного и неизбежного для нас возглавления всего Агнцем, – закон, очевидно поблажающий нашей беззаботности о себе, бездействию духовному, отсюда же и всем человеческим порокам и противоцерковной разнузданности.
После этого уже излишним кажется мне говорить что-нибудь и против оклеветания меня критиком в «готовности оправдывать и извинять многое бесконечным самопожертвованием и человеколюбием Агнца и ослаблением мною тяготы греха и порока собственно для людей». Примечательно, впрочем, что при таком своем замечании критик отмечает такие страницы в моей книге (с. 155, 156), где говорится о возможности похищать погибшие души даже из ада при церковной молитве за усопших. Неужели критик идет против этого? Но относительно самопожертвования Агнца скажу здесь разве только то одно, что именно действующее в нашем мире от его сложения, и в самых даже его бедствиях и наказаниях, человеколюбие Агнца Божия, заклавшегося за нас, – оно-то и показывает всю безответность и достойную бесконечных мук преступность нашего порочного противления Ему; так как и действительно, Страшный Суд Христов, по Евангелию, всею своею вечною тяжестию падает на беззаконников именно за не усвоение, а отвержение ими Христова человеколюбия (Мат. XXV, 41-46), – что и поставляется моею книгою на вид обвиняющих меня в потачке человеческой греховности (с. 623-624).
Но опять не могу не остановиться на вопросе: отчего это некоторые поборники духовной мысли стараются с такою настойчивостью подыскиваться под мои самые прямые мысли, объясняемые притом и поддерживаемые взаимно одни другими? Неужели намеренно и умышленно? Я полагаю, что это делают, более или менее только инстинктивно отстаивая свое немножко храмлеющее направление духовной мысли против ощущаемого подрыва его с моей стороны. Я сейчас это докажу.
Вот у меня в книгах моих поставляется на вид, что в христианском мире чрез дух папства, возглавляющий этот мир в земном иерархическом наместничестве Христа, открылась беда ниспадения христиан с высоты небесного жительства на землю; что в этом же духе противохристианского оземленения, хотя и с протестами против самого папства, явилась и развилась преобразовавшая христианство многих рациональность и соответственная ей цивилизация; что и мы, православные, уже не чужды приражений к нам того и другого направления, из которых по одному не заботятся о возглавлении самой веры в Самом и одном Господе, а по другому впадают в противоцер-ковную оземленившуюся рациональность, не отчуждаясь, впрочем, от разных остатков или предощущений чистой Христовой истины. А между тем православный Восток страдает в магометанском плену. Что делать в такой запутанности обстоятельств, которою наше время, кажется, преимуществует пред всяким другим временем? Что делать особенно нам, православным русским? – Для возвышения к благодатному небу оземленившейся области мысли и жизни многих из нас – способ вечно один: сошествие Христово на землю и превознесение Его на небо уже с нашим обоженным, но земным и плотоносным человечеством. Поэтому я и настаиваю всячески на том, чтобы нам в своей мысли и жизни возглавляться в Самом Господе, входя в человеколюбивый дух этого снисхождения Господня в мир наш и этого небесного возвышения в Господе всего человеческого, в наше спасение, в этот дух, утверждающий и духовную самостоятельность всех верующих, но низлагающий и всякую разнузданность и своенравие. Таким путем мы можем и должны, с одной стороны, отражать от себя и низлагать дух клерикального преобладания и неверной Христу, противоцерковно-разнузданной рациональности и тем приготовлять и приближать призываемое молитвами Св. Церкви воссоединение с нею Запада, запутавшегося в этих заблуждениях[10]. А с другой стороны, в то же время стали бы мы и поднимать к Господу, к Его небесной истине и благодати и всю оземленившуюся область нашей мысли и жизни и чрез это становились бы готовее и способнее вполне верными православию и потому совершенно надежными способами помочь и единоверному с нами Востоку выходить из страдальческого земного быта.
Но ведь, входя в Дух Христов, надо нам уж оставить свою привычку только осуждать и отвергать заблуждающих<ся>, а, напротив, надобно располагать и настраивать себя уж по духу самопожертвования за них Христова. Надо отрешаться от духовного самодовольства и самовозношения православием, а, напротив, видеть себя, по самому православию, только должниками других, имеющими жестоко поплатиться за беспечность разделить всемирное сокровище православия со всем миром. Надо озабочиваться и дорожить не правами одних членов Церкви, стеснительными для духовной самостоятельности других и не соответственными потому духу Христовой правды, но сохранением и развитием, под церковным водительством и попечением об этом, духовной во Христе самостоятельности равно всех (Гал. III, 26-29), – отчего и раскроется и само по себе, и пред миром истинное достоинство Православной Церкви, этой свободной матери всем нам, благодатно-свободным ее детям (там же, IV, 25-31). Надо нам осматриваться, не оставляем ли без движения и употребления многие, многие таланты всеобъемлющей Христовой истины и всеоживляющей Христовой благодати, не иссыхаем ли мы, будучи ветвями самой Христовой лозы, не мертвеем ли, будучи членами Христова тела – Церкви, и даже органами особенных ее отправлений, не обольщаем ли себя тоже каким-нибудь необходимым законом непременного спасения в Церкви, и не входя в одушевляющий это Христово тело Христов Дух. Очевидно, как много во всем этом надо изменить и поправить привычное направление мысли и духа, которое потому и становится, как говорится, на дыбы против такого посягательства на его отвердение.
Не знаю, нравится ли духовному критику мое объяснение явно ложных и противоречивых содержанию моей книги обвинений им меня в неправомыслии о разных предметах существенной важности. Но оно лучшее, какое мне возможно. Неужели, в самом деле, и мне тоже заподозривать критика в скрытых побуждениях и в преднамеренном умысле, хотя бы я это мог допустить в критике несравненно основательнее, чем его голословное обвинение меня в скрытых побуждениях и преднамеренности? Ведь духовный критик в своем стремлении настоять на своем в отзывах о мне доходит даже до таких действий, как – переиначивание отчасти моих слов по собственной мысли и подделка к моему образу выражения для приписания мне некоторого неправомыслия. Это действительно так. Вот однажды критик приводит как слова моего сборника, отмечая их знаками, следующее место: «Иисус Христос как Агнец Божий, вземлющий и вынесший на Самом Себе с грехами мира и условливаемые грехом все нестроения во всех предметах мира, Сам непосредственно, как лицо с Божественными силами и средствами, дарует миру Свое добро, светя человечеству светом истины и правды; уничтожает же в нем все злое и презренное единственно усвоением сего Себе как Агнцу, пожертвовавшему Собою за мир и готовому только поддерживать, облагоустра-ивать и успокоивать всех труждающихся и обремененных в мире». Этого места, в таком его виде, я не могу признать за принадлежащее мне или моей книге, в которой, прямо вопреки этому месту, есть нарочные предупреждения о том, что я отнюдь не думаю, чтобы и нераскаянная греховность уж перестала быть виновною и губительною или уничтожалась единственно Христовою смертию (с. 142). В другой раз критик отмечает знаками, хотя и не приписывает прямо мне, такие слова, которые показывают в себе характер моего образа выражения, и потому читателем, естественно, могут быть приняты за принадлежащие мне; а эти слова высказывают явно лютеранскую мысль: «Человек, верующий во Христа Спасителя, всего меньше нуждается в руководстве закона и делах, как сын благодати и любви Отчей». Я мог бы еще сказать, что верующий не нуждается в руководстве и делах закона (ветхозаветного), но сказать, что ему не нужны вообще дела, прилично разве Лютеру. Подобные действия духовный критик предоставил бы уж одному известному моему доброжелателю…
Что же наконец скажу я духовному критику? После всего сказанного выше имею, кажется, право пожелать ему, чтобы читал и судил он чужие произведения с должною прямотою, без задних мыслей о «скрытых побуждениях» автора и чтобы, в особенности, при осуждении кого-либо в неправых мыслях, даже и не о таких первостепенных предметах, как Церковь и дело нашего обновления, прежде всего построже к себе обсудил свой собственный суд. А то, пожалуй, в самый этот суд войдут не только явные противоречия содержанию обсуждаемой книги, но и еще такие странные противоречия суда самому себе, как это случилось с критиком в отношении ко мне: он в одном месте своей критики приписывает мне прямо молчание о Церкви, тут же, однако, присовокупляя, что я сам говорю о получении нами благодати усыновления именно в Церкви. Для поверки своего суда критику можно, конечно, не только повнимательнее обозреть и сообразить обсуждаемую книгу, но взглянуть и в другие книги того же автора. Особенно обсуждающему книгу «О современных духовных потребностях…» можно было бы обратить внимание на то, что она для обсуждения и надлежащего уразумения моего, как выражаются, принципа отсылает читателя к книге моей об Ал. Павле («Несколько статей о Св. Апостоле Павле»), который словом Божиим утверждает и внушает нашей вере этот самый принцип (см. с. 633). Тогда, если бы критику, по делам службы или по другой причине, было бы неудобно или просто только не захотелось бы сводить к общему соображению моих разрозненных в книге мыслей о Церкви, довольно было бы ему прочитать в книжке об ал. Павле статью об учении его о Церкви, и мои воззрения на этот предмет были бы для него не затруднительны и не сомнительны. А то еще недалеко было бы приметить критику, винящему меня в намеренном молчании о Церкви, что у меня почти одновременно с книгою «О современных духовных потребностях…» вышла в свет книжка «Письма о благодати Св. таинств Церкви Православно-кафолической» (объявление о ней на оберточном листе обсуждаемой книги); а потому, если и показалось бы, что я не то что молчу (это совершенная неправда), а не слишком много (хотя и это не совсем правда, как сам читатель знает из предыдущего) говорю о Церкви в одной книге, естественно и справедливо было бы подумать, что, видно, обстоятельные объяснения о развитии моего «начала» из существенных основ Св. Церкви я помещаю в другой книге. И таким образом, критику совсем бы не пришлось прибегать к этой недоброй, оскорбительной системе о скрытых побуждениях, о преднамеренности умышленной. Распространяюсь довольно об этом, собственно, потому, что верю доброму намерению критика не бросать на меня каменьев и желаю верить нескольким его словам, выражающим сочувствие ко мне. Видите ли, г. критик, что, со всем вашим добрым и сочувственным мне намерением, вы могли бы сделать с моею книгой чрез несправедливый и опрометчивый осудительный отзыв о ней. Хорошо, что книга уж открыта пред всеми; есть возможность и автору объясняться против осудительных нареканий, ссылаясь прямо на страницы и слова своей книги, и всякому читателю поверить все собственными глазами. Но будь еще моя книга, например, в типографии еще, или только в рукописи, или вообще в недовольной известности, – ваш отзыв о книге, будто бы намеренно молчащей о Церкви и все дело обновления нашего признающей совершающимся каким-то фатальным образом, мог бы иметь значение… как бы вам сказать?.. значение, пожалуй, извета против такой книги, которая касается существенно важных нужд времени и посильно подрывает очень, очень опасные и вредные для Церкви направления. И вы, с вашим нежеланием бросать на меня каменьев и с вашими смягчительными речениями: «как будто» или «едва ли можно», оказали бы мне и делу истины незабвенную услугу.
Но и теперь вот вы советуете мне быть повразумительнее и яснее в своем образе речи, чтобы иметь больший круг читателей. Сами можете судить, что вы, став между читающею публикой и мною такою несветлою для меня средою, как ваши неправые нарекания насчет самого правомыслия моего, – и это в листках довольно официального духовного органа, – вы тоже чрез это слишком поблагоприятствовали умножению моих читателей. Я и без того должен пробиваться сквозь цельную стену, противостоя господствующим ныне направлениям и за то рассчитывая на серьезное и живое мне сочувствие почти только грядущих поколений. – Но грустно и больно, что, когда и западный мыслитель (Гизо в недавно изданной в русском переводе книге его) возвышается, отстаивая против нынешних нападений и отрицаний Христову истину, над духом придирок и партионных споров, даже между протестантством и римским католицизмом, у нас и православные неправо придираются к раскрытию православия.
Довольно о высказывавшейся относительно моей книги духовной мысли. Взгляну и на проявления мысли светской по тому же предмету, в своем роде очень характеристические. Это – в «Русском слове», в библиографических заметках г. Зайцева, за апрель, кажется, 1865 года.
Сущность отзыва о моей книге в «Русском слове» состоит в том, что автор книги обозван просто юродствующим. В каком смысле? В смысле издевки, с какою именно в этом же отзыве говорится о подвиге или явлении юродства. По какому же, по крайней мере, поводу? Нет ли разве в книге моей каких-нибудь признаков того, что я говорю в ней отчасти в форме и с видом юродствующего? Нет, речь в книге от начала до конца идет в складе и характере обыкновенной человеческой речи, без тени приемов юродства: о самом юродстве, когда был случай мне касаться его или когда в целой, небольшой впрочем, статейке рассуждал я о нем, я говорил и рассуждал во имя здравого смысла и в том простом интересе знания и образованности, чтобы не дозволять себе порицать или отрицать что-либо с безотчетностию и самопроизвольностию, которых ныне не дозволяют и башибузукам. Итак, г. Зайцев хотел отличиться только невежливостию и наглостию, рассчитав, конечно, что в данном случае ему не придется поплатиться за это? На такой мысли мне не хочется остановиться по моему личному расположению и даже, если угодно, принципу – смотреть прежде всего на лучшее в человеке: без этого принципа и расположения, мне, пожалуй, не оборониться бы от презрения к людям по поводу испытанных мною наглостей со стороны одних, несправедливостей других, мертвой невнимательности ко всему этому остальных. Чтобы добраться до какого-нибудь дельного или хоть только делового смысла в выходке г. Зайцева, я беру во внимание в характере вообще светской нашей мысли и письменности (не касаясь на этот раз лучшей их стороны) одну жалкую сторонку – по отношению именно к предметам, которым посвящена моя книга. У меня на этот счет отмечены недавние же, очень знаменательные явления, на которые, впрочем, еще не обращается у нас общественное и литературное внимание. Помню, как один наш, очень и очень представительный журнал[11], поместив у себя одну статью пресловутого Бокля с некоторыми духовными вопросами и довольно религиозными мыслями о смерти и бессмертии, говорит в таком тоне и духе об этой неожиданности для некоторых господ: вот-де мы первые познакомили русскую читающую публику с Боклем, – первые же мы и не поклоняемся ему как общепризнанному божеству: мы всегда смотрели на него как на смертного, каким вот он и оказывается, рассуждая, между прочим, и о духовных предметах и явно склоняясь к верованию в бессмертие и будущую жизнь человеческой личности. По поводу и против этого другой наш журнал[12], претендующий на еще несравненно большую представительность в России, делает такой блистательный маневр. Он выписывает на свои страницы помещенный в одном из наших духовных журналов перевод одной английской статьи о Бокле, в которой серьезным и «уважающим себя» голосом какой-то ревнитель провозглашает этого Бокля отъявленным, по преимуществу пред другими, безбожником с самого времени, и даже по вине своего домашнего, а не школьного, воспитания. Значит, мол, и Бокль все еще остается в бессмертных, как мы-де всегда его понимали, вопреки недобросовестной неверности ему первого журнала; между тем вопрос по поводу того, что этот человек все же высказался в пользу верования в будущую личную жизнь людей, ловким софистическим движением обойден и тем прибит, едва успев подняться до нашей публики; духовная мысль уважена и довольна; а тенденции светской мысли известного кружка и журнала, усиливающегося задавать свой тон и другим, остаются нимало не тронутыми в своей самоуверенности, как бесспорно принадлежащие представителям европейской мыслительности. Вышло дельце удивительно ловкое! – представителем такого характера и движения светской мысли, и притом представителем горячим, признает себя и действительно оказывается и г. Зайцев: он даже уж слишком всегда забегает в этом вперед других, почему с невольным хохотом приостанавливают его по временам более холодные и серьезные вожаки партии. И вот этому человеку, любящему по-своему потолковать вкось и вкривь о многом, чего сам не понимает, попадается книга с таким дерзким названием: «О современных потребностях мысли и жизни…», и в этой книге заявляются права над человеческою мыслию и жизнию – Самого Господа, с советом притом «Русскому слову» внушать молодым людям за начало в деле истины и знания не «ядовитые сомнения», а живую веру и любовь к истине, хотя бы только стоящую еще не более как за это самое общее и начальное убеждение: есть же истина! Понятно, что естественным и простым движением горячего ревнителя животрепещущей современной мыслительности и свежей жизни было по-свойски остеречь молодых людей (а дело-то было именно о семинаристах) от возможного влияния книги и по-свойски же прихлопнуть ее автора за посягательство на монополию в деле истины новых олимпийских богов. Вникнуть пообстоятельнее в книгу прежде суждения о ней – это уж не в его пылком характере, да и не в его правилах. И таким образом вышло, что написал книгу упомянутого названия юродствующий, – и больше ничего. Тут нет ни особенной невежливости, ни тем более наглости. Это – при известном характере и обстоятельствах светской мысли некоторых, при известном настроении г. Зайцева – совершенно в порядке вещей, в таком же простом порядке, по которому другие, более спокойные и уверенные в деле своей партии, считают за более достойное себя и притом за действующее еще сильнее на чаруемую публику – не обращать внимания на мечтательные попытки, а прочие русские деятели мысли и слова держат себя как люди, которым действительно нет никакого дела ни до чего подобного. Правда, г. Зайцев, по своей пылкости, проговаривается откровенно о многом, о чем другие за лучшее рассудили бы помолчать; но эта самая откровенность и может послужить интересу истины.
Итак, самоуверенные, а все-таки мнимые боги-олимпийцы! Удостойте, хоть для развлечения своего, внять голосу смертного, у которого, однако, вам не удастся ни отнять, ни оспорить небесного огня. (Невольно сходит с пера и шутка, хотя от грусти за дело мысли и слова у русских.) Оставим, впрочем, шутки, даже и горькие, а предложим, по обыкновению, прямо слово здравого смысла и правды. – Вы, господа, стремитесь отстаивать свежую жизнь и живую мыслительность; это, конечно, дельное и достойное сочувствия и уважения стремление, в какие бы крайности ни увлекало оно вас иногда, охотно и с радостию признаю за вами. Но если вы хотите вести свое дело, по этому стремлению, хоть сколько-нибудь – не скажу – трезво и разумно, а просто с какою-нибудь надеждою на успех этого дела у нас в России, – то вы не можете серьезно не озабочиваться тем, как сделать, чтобы и народный наш дух становился на путь живой мыслительности и свежей жизни, а не закосневал на совсем противоположной дороге. Вы сами примечаете и это умеете высказывать беспрепятственно, что в неблагоприятном живой мыслительности и свежей жизни настроении или направлении наш народный дух многими неразумно и рабски задерживается, и притом очень и очень немало, во имя дорогих ему начал православия. Но вот пред вами – человек, стоящий и за начала православия, потому что он говорит о Божественных правах нашего Спасителя над нашею мыслию и жизнию, оправданных Им и всемирною историею, и животворным, просветительным существом и духом Своей истины, и непрестающими доныне фактами Его всевластительства и всеведения[13], и наконец самою невозможностию без Него поставить выше произвола начала истины и добра, оградить от мечтательности наши стремления к доброму и прекрасному, осмыслить и оправдать отчетливо самые законы и требования разума. Но вместе это – человек, стоящий, на основании самого православия, за свежую жизнь и живую мыслительность, потому что он говорит и вместе твердо по-православному доказывает, что Сам Господь Самим Собою стоит за жизнь нашей мысли и противостоит косному ее бездействию и темноте, что Он Сам дарует и утверждает за нами духовную самостоятельность, что все сколько-нибудь жизненное и свежее, хоть бы только инстинктивное, относится в существе своей свежей жизненности к Его же свету, что, особенно, искренняя любовь к истине и достойная истины строгость и честность свободного исследования принадлежит служению Ему же как истине. Этот человек не усомнился поставить, именно как Христово же, на открытый вид все живое и свежее, все лучшее, и в таком произведении, которое иные православные и не называют, не перекрестясь, – как против какого наваждения: разумею роман «Что делать?» И вообще, если для ревности по православию достаточною порукою за правомыс-лие этого человека, дорожащее всем освященным для нас и благодатию и священною для веры древностию, служит название его от людей века юродствующим, то и обратно, порукою пред самими людьми века, или передовой, как они думают, современности, за действительное и серьезное сочувствие его делу свежей жизни и живой мыслительности служат обвинения его и доныне, против всякой очевидности, в поблажке миру, в противоцерковных побуждениях и проч. И что ж? Вы, без зазрения совести, с издевкою, не затруднились такого человека назвать юродствующим.
Знаете ли вы, как жалко послужили вы чрез это собственному делу? Я всегда, по делу веры и знания, был уверен, что направлению неверия и противохристианских идей только не следует уступать ничего сколько-нибудь живого и свежего, что, напротив, все такое, будет ли то гуманность, рациональность, либерализм и под., следует, очистив от фальшивых односторонностей, относить именно к области Христовой истины как происшедшее от нее же и составляющее прямую ее собственность, – и тогда неверие или вообще противохристианское направление, только извращающее разумность и свободу, окажется во всем безобразии своей лживости, злости и вместе глупости. Такое самоопровержение этого направления и предначал г. Зайцев в своем ратоборстве против моего юродства. Он с издевкою отнес к юродству такие воззрения, по которым отстаивались живая мыслительность и свежая жизнь и с ними все разумно-либеральное и гуманное. Все это – юродство?! Что же затем оставили вы себе, кроме противохристианских тенденций в нагой уже их фальшивости и нелепости? Славно же вы постояли за дело мысли и жизни в их разумном и свободном развитии! Да, как хотите, но только уж за упрямую и дикую противоразумность ратуете вы, когда для вас юродство – такие речи и мысли: если мыслитель еще не утвердился во Христе, а был бы только не прочь от принятия Христовой истины, когда бы удостоверился в том, что это – действительно истина, то пусть он дело своей мыслительности, с ее самозаконием, ведет не в духе самонравия или произвольности беззаконной, но в послушной верности законам мысли как высшей или строжайше обязательной для него правде. Пусть в сознании, что и у других людей те же законы мысли, какие и у него, мыслитель пускается в разные попытки своей мысли не иначе как в человеколюбивом духе серьезной и крепкой озабоченности по делу и судьбе мысли и за других людей. И таким образом мыслитель и с этим одним предначатием духа здравой мыслительности вступит уже своею мыслию на стезю, несомненно, верного перехода – как из рабского и мертвого застоя, так и из столько подвижной влаемости от разных ветров и брожений мысли (с. 585 и 586). Вы стараетесь и наш православно-народный дух совсем отдалить от всякого движения живой мыслительности и свежей жизни, когда глумливо провозглашаете выходкой юродствующего такой образ мыслей: нужно нашему духу, и в частности нашей мыслителъности, прежде быть хотя бы в бессознательном соучастии Христовой жизненности, чуждой всего рабского и мертвого, – соучастии, выражающемся сначала хоть бы только в инстинктивном отчуждении или отвращении свежей мысли от всего рабского; и уже тогда наш дух и мыслительность могут входить в свет Христов, в живое и сыновнесвободное разумение Его истины. В том, говорит о Христе Боге-Слове св. Иоанн Богослов, вначале и всегда живот бе, и, собственно, уже живот бе свет человеком (Иоан. I, 3), т. е. «в Нем была жизнь, и жизнь была свет человекам» (с. 424).

