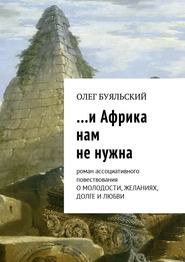скачать книгу бесплатно
– А где же патриотизм! – спросит читатель.
– Нечего сказать? – удивится кто-нибудь.
Считается, что в сравнении с другими профессиями – военная стезя являет собой проявление патриотического начала в кристально чистом виде. Или, по крайней мере, так должно быть.
Не будем углубляться в обсуждение, насколько обосновано, или, тем более – неверно подобное мнение.
– Закон, что дышло, – говорят юристы. – Куда повернул, туда и вышло.
Что уж говорить о мнениях! Мнение – не закон, мнениями манипулируют.
– Каждое мнение верно ровно в той же степени, как и неверно, – говорят некоторые.
– Не все мнения одинаково правильные, – возражают оппоненты.
Это не удивительно. Удивление вызывает другое.
– Неодинаковые мнения равноудалены от истины, – говорит «обратное» мнение.
– Почему? – недоумевают оппоненты. – С чего бы это?
Ответ очевиден. Хаос наступает, энтропия стремится к победе. Свобода и равенство искушают. Хаос говорит:
– В доме моем – равное распределение энергии по всем степеням свободы. Свобода и равенство!
– Все равноудалены от истины, – говорит Энтропия.
Структура и упорядоченность предполагают неравенство.
Никто не будет спорить, что сам по себе хаос – нужен и полезен. Не будь хаоса, из чего бы строили и создавали все, что видим вокруг себя. И не только видим, но еще и ощущаем, слышим, различаем вкусом и запахом. Зрение – лишь один способов познакомиться с миром.
Не будь хаоса, Шива не придавался бы «полезному созидательному труду», а просто плясал зазря и просто так. Так пляшут в пьяном угаре и разрушают свои творения. Ну, чем не безумие!
Если «пошла такая пьянка», и состояние алкогольной интоксикации помянуто всуе, то ассоциативная мысль подсказывает другой божественный образ. Вакх, бог виноделия – скачет, веселится и пляшет. Он – развратник, балагур и весельчак по жизни.
Вакха еще называли Дионисом.
Разнузданность и «дионисийское начало» уравновешивается началом «аполлоническим». Чувство меры указывает на границы дозволенного.
Патриотизм горит тихим пламенем, упорядоченного порядка – до того момента, пока не вырвется наружу фонтаном огня, воспламеняющего все и всех.
Мать Диониса вспыхнула в объятиях Зевса. Ревнивая Гера подговорила соперницу попросить Зевса явиться к ней «в славе». Не в силах Зевса нарушить обещание. Не в этом ли значение присяги? Война и любовь опять едины.
«Nihil timendum est – ничего не бойся»!
Есть время говорить о патриотизме, и есть время помолчать о нем. Есть время для действия, и время для недеяния. Даже простой огонек состоит из плазмы неодинаковых цветов и температур. Мир многообразен, что не мешает ему – оставаться миром.
Миру – мир!
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»[52 - Из обращения И. В. Сталина к советскому народу в день начала Великой отечественной войны.].
После пары лет учебы курсанты Института узнавали слова-названия, привязанные к географии Забайкалья и Дальнего востока.
Молодой лейтенант приезжал в воинскую часть, расквартированную в центре далеких пространств. За этим следовало предсказуемое развитие карьеры.
Служба начиналось, как правило, с продолжительного пребывания на станции радиоперехвата.
– Куда летят самолеты?
– Куда плывут корабли?
– О чем говорят?
Большинство «разведданных» добывается из «открытых источников». Надо слышать, видеть, сопоставить факты и делать выводы.
Фильмы о Джеймсе Бонде и наших разведчиках сформировали неправильное мнение. Агентурным путем добывается незначительная часть информации. Жизнь открывает перед людьми книгу секретов. Самые большие секреты – никто не прячет. Однако, читают все меньше и меньше. Россия утратила статус «самой читающей страны мира».
Фаворит среди фильмов о разведчиках – советский телесериал «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой. В основу фильма легли книжки писателя Юлиана Семенова.
Были и другие фильмы: «Ставка больше, чем жизнь», «Подвиг разведчика». И, конечно же, – «Щит и меч».
В «Щит и меч» Станислав Любшин в роли нашего разведчика Йогана Вайса, – запоминает страницы цифр и текста, бегло скользнув по ним взглядом.
В фильме «Мертвый сезон» артист Данатас Банионис произносит флегматичным голосом загадочную фразу:
– В Москве, наверное, уже жгут листья.
События фильма разворачивались осенью. Возможно, в этих словах не было загадки. Иногда банальность маскируется под недосказанность, а воображение дорисовывает недостающее.
Совзагранработники не вели себя, как кинематографический Джеймс Бонд. Иначе возвращение на родину по приказу начальства не заставило бы себя долго ждать.
Если, конечно, «спецзадание» не состояло в организации преднамеренных дебошей и умышленном совращении женщин. Во время Перестройки газеты писали, что молодые ребята из спецслужб ГДР втирались в доверие к секретаршам бальзаковского возраста из правительственных ведомств Западной Германии. Секретарши делились с молодыми людьми секретной информацией.
«Настоящая» разведывательная деятельность, как утверждают некоторые знатоки, – рутинная кропотливая работа, в которой присутствует не столько азарт погони, сколько скрупулёзное планирование и продумывание деталей. Подобная деятельность может показаться неинтересной, скучной и даже нудной.
Аллену Даллесу, одному из создателей ЦРУ, приписывают утверждение, что даже самая грандиозная и хорошо продуманная операция рискует пойти наперекосяк из-за незначительной детали.
Жизнь «настоящая» и «жизнь, как в кино», – две большие разницы. От настоящей жизни тошнит так же, как от избытка пирожных. В жизни так много занимательного, что «черствый хлеб» приключений становится «дефицитным товаром».
Эта вечная тяга к противоположному!
Впрочем, не будем углубляться в философические размышления на тему «Случайность – это закономерность или прихоть фортуны?» Бывает по-разному. Каждому свое. Кто-то кропотливо продумывает детали под крышей посольства, кто-то сидит с «телефонами» на ушах, кто-то заказывает мартини – «взболтанное, но не перемешанное». Кто-то слюнявит марки и наклеивает их на конверты: тоже работа с языком.
Мартини популярно в России. Нам нравятся сладковатые вина, это дают о себе знать наши восточные гены. Давно замечено, чем дальше на Восток, – тем слаще вкус. Однако, у нас пьют не только Мартини, но и напитки покрепче.
Выпускник, оказавшийся за Уралом, встречался с риском пьянства и мечтаний о будущей светлой жизни. Долгое созерцание безмолвия дикой природы – не для всех. Многие этого не выдерживают.
Созерцание подвигает наблюдателя на углубленное философствование, следующим шагом после которого почти всегда становится легкая степень сумасшествия, или, в народе – дурка. Человек со всей очевидность осознает, что «внешняя картинка» находится в диссонансе с «внутренним миром», и он ничего не может с этим поделать.
Отсутствие действия ведет к разбалансировке «внутренних состояний» и «внешних обстоятельств». Жизнь начинает представляться жестокой, холодной и несправедливой.
«Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!»
«Побеждают проходимцы, выигрывают бесчестные!»
Обстоятельства внешней жизни давят с такой силой, что не сразу удается сообразить, что это – следствие законов Ньютона, который объяснил, что чем сильнее давишь на стену, тем сильнее стена давит в ответ.
Сила действия равна сила противодействия.
Это нынче на каждом углу советуют прекратить «битву с миром».
– Используйте энергию, сочащуюся между полюсами «хорошего» и «плохого»! – советуют специалисты.
– Мысль материальны, – вторят им школьники.
– Отношение к происходящему – постепенно меняет и само происходящее, – говорит кто-то третий.
Раньше за подобные разговоры получали хлесткий удар фразой про «непартийность» и «буржуазную идеологию». Пара таких фраз, несколько таких ударов – и внешние обстоятельства карьеры превращаются в пшик, а сотрудник становится невыездным. Такого не выпускали за границу, тем более, – для выполнения «ответственных заданий Партии и Правительства».
Вот народ и мучился. Но не весь. Весь народ никогда не мучается, а просто живет простой обыденной жизнью, подчиняется воле обстоятельств и не очень задумывается, откуда эти обстоятельства берутся.
Да и зачем?
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь».
«Лучше щепоть с покоем, чем пригоршня с трудом и томлением духа».
Кто рискнет ради журавля в небе, когда синица в руках?
И это – работает! Потому что альтернатива – спорна, трудна и туманна.
В словарь современного менеджмента уверенно вошла аббревиатура VUCA: Volatilty – Нестабильность, Uncertainty – Неопределенность, Complexity – Запутанность, Ambiguity – Неоднозначность.
– We live in a VUCA world – Мы живем в мире ВУКА, – говорит интернет, предоставляя бесконечное количество ссылок и комментариев на эту тему.
Если наберете в поисковике слово «Вука» по-русски, то получите информацию о биологически-активной пищевой добавке, помогающей решить проблему мужского полового бессилия. Пока мир говорит об «неопределенности», у нас исправляют импотенцию.
Истории свойственна ирония.
Западному менеджеру было бы не с руки рассуждать о «VUCA world», знай он смысловые ассоциации «российского прочтения».
Бывает и хуже. Представьте, каково было – представлять на официальном приеме в англоязычной стране «адмирала Фокина», прибывшего с визитом дружбы во главе отряда советских военных кораблей.
В российском пространстве менеджмента аббревиатура ВУКА не прижилась, а российские военные корабли теперь нечасто приглашают с дружественными визитами.
Те, кто думает о «развитии», – всегда в меньшинстве.
«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Знания без действия разрушают и вредят.
«Меньшинство» отличается от «большинства» тем, что боится ударов судьбы и пытается передвигать ноги самостоятельно. Остальных жизнь гонит палкой.
Развиваются все. Это неизбежно. Правда, и удары палкой – тоже получают все. Люди – не всегда догадливые ученики.
***
Между «пьянством» и «мечтами» нет разницы. И то и другое уводят от реальности. В жизни выпускника Института за Уралом была еще работа—служба. Потенциальное пьянство и служба выступали в форме «деяния», а «мечты» становились «недеянием» – в том толковании, что благоприятные события происходят сами по себе, как бы по волшебству. О «гармонии с миром» в подобной ситуации речь не идет.
Благоустройство жизни молодого советского офицера представляло собой ребус, напоминающий русскую сказку, в которой героя посылают «пойти туда, не знаю куда; найти то, не знаю что». Бытовые условия подтверждали тезис о необходимости стойко переносить тяготы и лишения воинской службы.
Таковы уж традиции русско-советского воинства: жилья для офицеров не хватает, и они живут черт знает где. Например, подснимают угол у какой-нибудь старушки, а если повезет, – разделяют «блок» из пары комнат в офицерском общежитие.
Каждый из офицеров поодиночке не собирался периодически наливаться пивом и ходить по «кабакам» в поисках женщин. Однако, когда четверо молодых людей оказывались вместе, сама собой появлялась идея конвертировать досуг в «употребление спиртных напитков» и поиск приключений.
Впрочем, койко-мест в офицерских общежитиях не хватало, как не хватало и служебных квартир для семейных офицеров. Иногда случалось, что с одной стороны межкомнатной перегородки три – четыре неженатых молодца заливались пивом, а за тонкой стенкой – голосили и шалили дети.
– Вы потише там, – говорил женатый сосед, когда его молодые и неженатые товарищи принимались гоготать и рассказывать непристойные анекдоты. – Детей и жену пугаете!
– Хорошо, хорошо! – обещали молодчики, но пиво давало эффект, и все повторялось вновь.
Дети из-за стенки иногда выбегали в коридор или забегали на общую кухню. На кухне, неженатые офицеры и офицерские жены, плотно завернутые в домашние халаты, – варили еду на электрических плитах.
Некоторые конфорки не работали, а одна или две, наоборот, – никогда не выключались и рдели тусклым светом понапрасну расходуемого электричества. За кухонными плитами особо не следили. Небольшая неряшливость каждого пользователя аккумулировалась в убитом виде кухонного оборудования.
– Понятно, что не свое, вот и не берегут, – сетовал кто-то.
– Все вокруг колхозное, все вокруг мое, – соглашался собеседник, повторяя популярную присказку тех лет.
Однако, время проходит, и начинает казаться, что все было не так уж и плохо. Участники событий вообще ничего не замечали, кроме своей молодости.
– Это был полезный опыт, – говорят повзрослевшие люди.
– Это называется – школа жизни, – соглашается собеседник.
Это неудивительно. Людям свойственно романтизировать прошлое. Мы напускаем в прошлое розового тумана, который не замечали, когда «прошлое» пряталось в «настоящем». «Настоящее в прошедшем» превращает нас из субъекта действия в объект. Впрочем, субъектно-объектные отношения запутаны. Разобраться в собственных желаниях – непросто.
Грамматика английского языка оперирует четырьмя формами «будущего в прошедшем»: Future in the Past, Continuous Future in the Past, Perfect Future in the Past, Perfect Continuous Future in the Past.
На уроке английского языка детей просят перевести на латынь ХХ века, например, такое предложение:
– Мы надеялись, что сделаем это к полудню.
«Ох, ни фига себе», – говорят про себя дети.
Хотели как лучше…
Дети мучаются с английскими временами. Взрослые настолько «улетают» в «прошлое» и «будущее», что соблюдение времен в «настоящем» становится уже неважным. Грамматика – не более, чем условность.
Впрочем, сидение у радиоприемника с «телефонами» радиоперехвата на голове – было еще куда ни шло. Это было по-своему интересно.