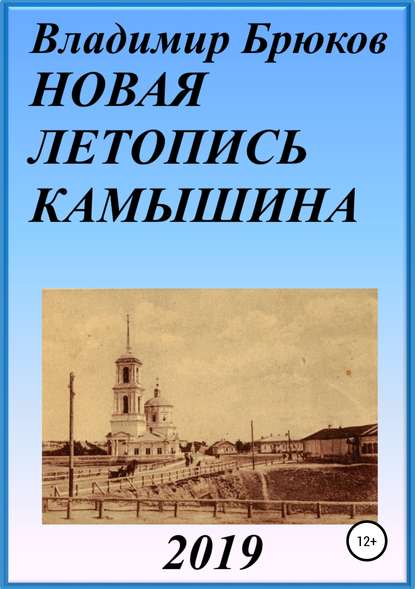 Полная версия
Полная версияНовая летопись Камышина
Одним из первых иностранных гостей недавно построенного города Дмитриевска стал царь Имеретии (Западной Грузии) Арчил II, который в результате заговора своих вельмож был изгнан из страны в 1698 году по приказу турецкого султана. Весной 1699 г. он решил эмигрировать в Россию.
О его визите в недавно построенный Дмитриевск рассказал в своих мемуарах Джон Перри: «В 1699 году Царь Грузии, одной из самых благодатных стран и более населенных, находящихся на берегах Каспийского моря, отделенной от Персии Араратскими горами … изгнанный подданными из владений своих, явился в Россию, с просьбой о покровительстве Царя. Во время первого лета, когда я занимался работами для сообщения между Волгой и Доном Царь Грузинский, проезжая мимо, остановился и зашел посмотреть на мои работы. Это был высокий, красивый, мужчина; не знаю, из любезности ли к Русским, или по другой какой причине, но он, как все Русские, носил бороду. Я имел честь обедать вместе с ним в доме Камышенского Губернатора, который был предуведомлен об его приезде и получил приказание принять его со всеми почестями, свойственными званию владетельного Государя. По приезде в Москву он был милостиво принят Царем, назначившим на содержание его и окружающих его доходы с нескольких деревень. [См. Перри Д. Другое и более подробное повествование о России // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 2. М. 1871, с. 63-64].
Как мы уже говорили, в 1698 г. Джон Перри после заключения контракта с российским правительством занимался осмотром и подготовкой нового проекта Волго-Донского канала, а вот непосредственно работы под его руководством по строительству канала начались лишь с весны 1699 г. Именно этот год Джон Перри и называет первым годом своей практической работы над строительством канала. Поскольку Арчил II решил эмигрировать в Россию весной 1699 года, то его прием у воеводы города Дмитриевска (Перри называет его Камышенским Губернатором), по всей видимости, мог состояться в начале лета 1699 года. Заметим, что летом 1699 г. воевода Дмитриевска принимал имеретинского царя в своем доме, в то время как 15 июля 1697 г. глава Приказа Казанского дворца князь Борис Голицын встречал калмыцкого хана в шатре, а находившееся на реке Камышенки царское войско стояло «за рогатками и за пушками», то есть за полевыми, а не за городскими укреплениями.
В 1701 г. Приказ Казанского дворца подготовил перечень низовых городов, в котором упоминается и новопостроенный город Дмитриевск: «Перечень низовых городов, в которых до отсылки в Ратушу таможенные и кружечные дворы ведомы были в Приказе Казанскаго Дворца:
Казань, Астрахань, Терек, Царицын, Саратов, Уфа, Самара, Новодемитревской, Петровской, Павловской, Свияжск, Синбнрск, Чебоксар, Козмодемьянск, Цивильск, Уржум, Инсарск, Курмыш, Царев-Кокшанск, Яренск, Кокшанск, Ядрин, Алатырь, Саранск, Царев-Санчюрск, Пенза, Мокшанск, Темников, Керенск.
О строении низовых городов.
Низовые городы построены: в Казани каменной город меньшой, да другой большой город деревянной; в Астарахани, каменные два города да третей деревянной. На Терке, да на Саратове, да на Камышенке, новопостроенной город Дмитриев, земляные; а иные все низовые городы построены деревянные, а каковы в тех вышеписанных городех каменные и земляные и деревянные городы строением и мерою и что в тех городех ныне на лицо пушек, и зелья, и свинцу, и ружья и всяких воинских припасов, того в Приказе Казанского Дворца выписать не из чего, потому что в нынешнем 1701 году июня в 19 числе, в пожар, в Приказе Казанского Дворца низовых городов чертежи, и росписи и росписные списки сгорели …» [ См. Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом, М., 1972, том 2, с. 283].
Из этого перечня можно сделать следующие выводы:
Во-первых, имя у второй раз основанного города на Камышенке к 1701 году еще не устоялось, поскольку в одном абзаце его называют Новодемитревской, а в другом – «новопостроенным городом Дмитриевом на Камышенке».
Во-вторых, городов, обозначенных на карте Корнелия Крейса – Иловли и Петр города – в списке Приказа Казанского Дворца нет, то есть они так и не были построены, а город, недавно построенный на месте разрушенной разинцами Камышенки, был назван городом Дмитриевом на Камышенке (Новодемитревской).
В-третьих, построенный в 1698 г. на реке Медведице (приток Дона) город Петровск в этом списке назван крепостью Петровской, но его не стоит путать с так и не появившемся на правом берегу Камышенки Петр городом (через 12 лет туда переселились жители левобережного Дмитриевска, но название у переселенного города осталось прежним). Хотя, конечно, если бы проект по строительству Волго-Донского канала между р. Камышенкой и р. Иловлей завершился успешно, то тогда бы, возможно, встал бы вопрос и об основании на правом берегу Камышенки Петр города, а также и о постройке города Иловли, который планировали основать при впадении Иловли в Дон.
Голландец де Бруин об изменившей течение Камышенке 1703 г.
Голландский художник де Бруин (1652 – 1727), трижды посещавший Россию, во время своего первого визита совершил путешествие вниз по Волги до Астрахани, откуда он затем отправился в Персию. Вот как он пишет о своих впечатлениях о новопостроенном Дмитриевске: «16-го числа (май 1703 г. – прим. В.Б.) нам представились опять скалистые горы, во многих местах обвалившиеся и усеянные гнездами ласточек, которые ежеминутно вылетали из гнезд и снова прятались в них. Река в этом месте также полна была островами, и мы увидали издалека еще Золотую гору, а в 3 часа – другие горы, которые больше покрыты были зеленью и деревьями; между же двумя горами протекала небольшая речка Дубовка, которая направляется к северо-западу, в двадцати пяти верстах от Камышина. Тут пошел дождь, но ненадолго, и солнце опять показалось. Затем мы увидали, спустя несколько часов, лес впереди гор, стоявший отчасти в воде, куда занесены были бурею два струга, в то время еще, когда была полая вода в реке; струги эти были совершенно целы еще. Мы видели здесь также рыбачьи шалаши, а до захождения солнца проплыли мимо города Камышина, начатого постройкой всего четыре года тому назад и уже значительно обстроенного. Город этот довольно обширен, окружен земляным валом, над которым и тогда беспрестанно работали. На житье сюда прибыли уже из Москвы до четырех тысяч семей. Гора, на которой построен город, особенно возвышена к стороне реки, обрывиста и чрезвычайно скалиста. Поблизости города, слева (по всей видимости, слева если смотреть на город с судна, плывущего вниз по Волге ¬ прим. В.Б.), бежит река Камышинка, текущая к западу. Говорят, что она берет начало свое из родника у Иловли, которая впадает в реку Дон, изливающуюся в Понт и отделяющую Европу от Азии. Казаки, живущие на берегу Дона, переплывали, как рассказывали нам, на лодках из этой реки в Волгу и делали в этих местностях много беспорядков, несмотря на то что сюда часто присылались войска для обуздания их. Так как меры эти оказались недостаточны для достижения сказанной цели, то и решено было выстроить здесь город, чтобы держать казаков в страхе. На другой стороне Камышинки сооружали и крепость, окруженную земляным валом, над коим и теперь работали, но сооружение это плохо продвигалось вперед, потому что рабочие не выносили тягости работ по причине дурного здешнего климата. Если б не это обстоятельство, то его величество приказал бы прорыть тут канал для проезда в Черное море. Я выходил на берег взглянуть на сказанное сооружение, и мне сказали там, что хотели было построить и город на том месте, где начата была эта крепость, но что не сделали этого потому, что воздух в этом месте был очень нездоров. Намеревались также устроить здесь плотину между двумя горами, чтобы задержать течение Камышинки и не давать ей выхода в Волгу; но оказалось, что это предприятие также надо было оставить, потому что затворы шлюзов не в состоянии были выдерживать напора воды, которая иногда стекает в Камышинку с соседних гор. Кроме того, грунт земли, находящийся тут под верхним слоем, такой каменистый и скалистый во многих местах, что не было возможности ломать его и сладить с ним. Все это вместе заставило подрядчика отказаться от его намерения во избежание тех неудач и убытков, которые он мог бы при этом понести». [См. Россия XVIII в. глазами иностранцев. Пер. П. П. Барсова. Л. 1989, с. 156-157]
Читая этот отрывок из книги де Бруина о его путешествиях «через Московию в Персию и Индию», изданной в 1711 г., создается впечатление, что он перепутал направления течения рек. Так, речка Дубовка у него течет к северо-западу, а Камышенка – на запад, хотя и берет свое начало из родника у Иловли. По всей видимости, о последнем факте художнику сообщили сопровождавшие его россияне, а вот такое достаточно редкое явление, как сезонную бифуркацию (разделение) рек он наблюдал сам лично. Как известно, сезонная бифуркация возникает на многих реках во время половодий или паводков. В частности, можно предположить, что в середине мая 1703 г. в результате сильного паводка в верховьях Волги течение рек Дубовка и Камышенка могло временно измениться, из-за которого уровень Волги сильно поднялся и «затопил» ее притоки.
По словам де Бруина, город был начат постройкой всего четыре года тому назад и к 1703 г. был уже значительно обстроен. Если понимать это утверждение буквально, то строительство Дмитриевска, по версии де Бруина, следует отнести к весне 1699 г., в то время как в указе Петра I от 19 ноября 1698 г. этот город уже упоминается как новопостроенный. Таким образом этот петровский указ однозначно отвергает версию де Бруина, но вполне подтверждает наш вывод о том, что строительство города, по всей видимости, началось весной 1698 г. То есть, по нашему мнению, де Бруин примерно на год ошибся с датой начала строительства Дмитриевска.
Судя по описанию де Бруина, довольно обширный и окруженный земляным валом город все еще находился на высоком левом берегу Камышенки, где он и был первоначально основан. В пользу такого вывода говорит фраза: «Гора, на которой построен город, особенно возвышена к стороне реки, обрывиста и чрезвычайно скалиста». [См. Россия XVIII в. глазами иностранцев. Пер. П. П. Барсова. Л. 1989, с. 157].
Впрочем, работы велись также и на противоположном, то есть на низком правом берегу реки Камышенки, где сооружали крепость, окруженную земляным валом, но эти работы плохо продвигались по причине дурного здешнего климата. Рядом с крепостью – очевидно еще во время строительства Волго-Донского канала – намеревались также устроить плотину, но этот проект оказался неудачным». [См. Россия XVIII в. глазами иностранцев. Пер. П. П. Барсова. Л. 1989, с. 157].
Таким образом, из рассказа де Бруина, можно сделать вывод, что в мае 1703 г. уже начались работы по строительству крепости на островке, расположенном в бухте р. Камышенки. Именно эта крепость через семь лет должна стать кремлем, в котором будут размещены органы управления города Дмитриевска, перенесенного на низкий правый берег Камышенки. Причем, уже тогда были планы и по строительству на этом месте города, о чем свидетельствует следующая фраза из рассказа де Бруина: «Я выходил на берег взглянуть на сказанное сооружение, и мне сказали там, что хотели было построить и город на том месте, где начата была эта крепость, но что не сделали этого потому, что воздух в этом месте был очень нездоров». [См. Россия XVIII в. глазами иностранцев. Пер. П. П. Барсова. Л. 1989, с. 157]. В пользу этой версии говорит и обозначенный на карте Корнелия Крейса (см. рис. 5) Петр город.
Кстати, на этой же карте хорошо видно, что сам этот островок образовался в результате прокопа, сделанного в бухте реки Камышенки недалеко от ее правого берега, поскольку здесь строители канала собирались сделать ворота шлюза, а, с другой стороны от островка до левого берега планировали соорудить плотину, перекрывающую р. Камышенку при ее впадении в Волгу. Об этом, кстати, пишет и побывавший в Дмитриевске в 1771 г. астроном П. Б. Иноходцев. [См. Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). Под редакцией М. М. Загорулько и И. О. Тюменцева. – Волгоград, 2010, с. 40].
Булавинский бунт и переселение Дмитриевска на левый берег Камышенки
Как первые камышане относились к петровскому брадобритию
Через десять лет после своего второго основания город Дмитриевск (Камышин) оказался в эпицентре кровавых событий, связанных с булавинским восстанием 1707-08 гг. Вот что об этом пишет камышинская летопись, называя это бунтом казаков против запрета бород и введения немецкого платья: «После приезда, на третий год заложена во имя Казанския Божией Матери каменная церковь, выстроена по ниже окошек, коей знаки и по сие время на том месте видны. – Потом весною приехал из Москвы болярин какой-то, генерал, а как его звали, не упомнят, – от государя с указом, чтоб воевода и набольшие служилые люди при нем обрили бороды и надели немецкое платье, что и сделали. По отбытии ж сего генерала приступили к городу с трех станиц, Бурлуцкой, Неврюевской и Черногаевской, казаки, осадив оной за бритье бород и новые обряды, принятые воеводою Бушем и другими чиновниками, хотели в конец разорить, строение пожечь, и людей с собою побрать …»». [См. Пополнительные сведения, к истории города Камышина // Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). Под ред. М. Загорулько и О. Тюменцева. Волгоград, 2010, с. 55]
Хотя имя атамана и вождя восставших Кондратия Афанасьевича Булавина (около 1660–1708) в камышинской летописи не называется, но излагаемые ею события говорят именно о булавинском восстании. В то время как тот факт, что восставшие казаки якобы попытались взять Дмитриевск через три-четыре года после его постройки, историческими документами не подтверждается. Причем, в ближайшем к этой дате астраханском бунте, который часто называют «бунтом за старину», дмитриевцы не участвовали. К тому же этот бунт произошел в 1705-06 гг., то есть не через 3-4 года, а через 7-8 лет после основания Дмитриевска.
Тем не менее дмитриевцы действительно не одобряли бритья бород и многих других петровских нововведений. Вот что об этом написал в своих мемуарах Джон Перри: «Pyccкие положительно питали некоторого рода религиозное уважение к своим бородам, тем более, что это ставило различие между ними и иностранцами; а Священники поддерживали их в этом обычае, приводя в пример то, что все благочестивые мужи в древности носили бороду, согласно тому, как на иконах изображают Святых. Ни что не может заставить Русских расстаться с своими бородами, кроме самовластия Царя …
Около этого времени Царь приехал в Воронеж, где я тогда находился на службе и многие из моих работников, носившие всю свою жизнь бороды, были обязаны расстаться с ними; в том числе один из первых, которого я встретил возвращающимся от цирюльника, был старый Русский плотник, бывший со мною в Камышенке, отлично работавший топором и которого я всегда особенно любил. Я слегка пошутил над ним по этому случаю, уверяя его, что он стал молодым человеком, и спрашивал его, что он сделал с своей бородой? На это он сунул руку за пазуху и, вытащив бороду, показал мне ее и сказал, что когда придет домой, то спрячет ее, чтобы впоследствии положили ее с ним в гроб и похоронили вместе с ним, для того, чтобы явившись на тот свет, он мог дать отчет о ней Св. Николаю. Он прибавил, что все его братья (подразумевая под этим товарищей работников), которых в этот день тоже выбрили, как его, также об этом позаботились. [Перри Д. Другое и более подробное повествование о России // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 2. М. 1871, с. 126-127].
Вместе с тем тот же Перри пишет, что гарнизон Дмитриевска успешно отбил атаку астраханских мятежников: «… во время случившегося мятежа в 1703 г. (ошибка, на самом деле в 1705 г. – прим. В. Б.) в Астрахани все чужестранцы, находившиеся в этом городе, сделались жертвою мести и были изрублены, не исключая женщин и детей … Мятеж продолжался в течение двух лет: начальник города был вероломно захвачен в плен и изрублен, равно как и главные начальники стражи и все иностранцы, находившиеся в это время в Астрахани. После этого мятежники направились к Камышенке, но тамошняя стража была готова к обороне и заставила их отступить. Тогда они осадили Царицын, но также не имели успеха, и наконец вернулись опять в Астрахань, где Петр Матвеевич Апраксин (Peter Matfeaich Apraxin), брат Адмирала, посланный в Астрахань с войском, овладел городом и перебил всех мятежников, за исключением некоторым начальников, которые и были живые отправлены в Москву, где их предали пытке и потом казнили». [Перри Д. Другое и более подробное повествование о России // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 2. М. 1871, с. 63]
Впрочем, отбил атаку астраханских мятежников не полк Юрия Буша, который, судя по документам, нес гарнизонную службу в Дмитриевске только до 1704 г. За год до астраханского мятежа этот полк был отправлен на северо-запад страны в воюющую против шведов армию. В 1705 г. полк Ю. Буша находился уже на острове Котлин. В 1707 г. он был пополнен людьми из полка И. Микешина, в 1708 г. находился в районе С.– Петербурга, а к 1712 г. был расформирован. [См. М. Д. Рабинович. Полки петровской армии 1698-1725. КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК. Под ред. Л. Г. Бескровного, М., 1977, с. 28].
Так что говоря о том, что во время осады Дмитриевска воровскими казаками городским воеводой был Буш, камышинская летопись ошибается, противореча документам, которые сообщают нам, что на этой должности был тогда майор Данила Иванович Титов. Именно он и командовал полком, с 1705 г. несшим гарнизонную службу в Дмитриевске. Из чего следует, что именно полк Титова отбил атаку астраханских мятежников на город, несмотря на то, что среди самих дмитриевцев было немало противников нововведений Петра I. Тем не менее в 1708 г. полк перешел на сторону булавинцев, поэтому после подавления восстания он был расформирован, а часть людей была влита во вновь сформированный одноименный (т.е. Дмитриевский – прим. В. Б.) полк [См. М. Д. Рабинович. Полки петровской армии 1698-1725. КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК. Под ред. Л. Г. Бескровного, М., 1977, с. 56].
Взятие булавинцами Дмитриевска
Отряды булавинцев начали активно действовать на Нижней Волге в мае 1708 г., когда часть восставших, преимущественно «голытьба», настояла на отправке их туда Булавиным. На Волге булавинские отряды возглавляли три атамана: Игнатий Некрасов, Лукьян Хохлач и Иван Павлов. 13 мая 1708 г. Лукьян Хохлач во главе отряда, состоявшего из казаков, беглых солдат и стрельцов, с помощью восставших горожан, в подавляющем большинстве являвшихся солдатами полка Д. И. Титова, взял без боя город Дмитриевский на Камышенке.
Вот что о взятии булавинцами 13 мая 1708 г. Дмитриевска написал комендант Казани Никита Кудрявцев: «1708 г. мая 28. – Доношение Казанского коменданта Н. Кудрявцева царю Петру Алексеевичу о взятии булавинцами города Дмитриевского … Сего 708 году майя 26-то дня явился нам в Казани из Дмитреевского, что на Камышенке, солдацкого полку -порутчик Иван Муханов, а сказал: сего де майя против 13 дня, в ночи часа за 3 до дни (в переводе на наше время в 1 час. 32 мин. ночи – прим. В. Б.), спал де он Иван в доме своем и– услышал, в городе в Дмитреевску пушечную стрельбу. И, прибежав де он к той стрельбе, увидел в городе воровских казаков, конных и пеших, и стреляют ис пушек воевоцкого двора по воротам, для того, что де от них воевода Данила Титов заперся в том дворе, а дмитреевские салдаты тут же в городе по улицам ходят с ружьем. И он де Муханов стал им говорить, чтоб они с теми воровскими казаками учинили бой. И они де ему сказали, чтоб он шел от них прочь, до коих мест сам жив. А воры ездят на лошедях по улицам и им салдатом говорят, чтоб их не боялись: им де ворам дело не до вас, надобны де им воевода да начальные люди. И у воевоцкого двора они воры ворота выбили и пошли на двор, а другие, отделясь пошли в пороховой погреб, и у того порохового погреба поставили свой воровской караул. И он де Муханов, видя дмитреевских салдат с теми ворами согласие, побежал из города тайно в степь к Саратову, чтоб ему о том ведомость учинить в Казани, и шел до Саратова 7 дней один. А как де они воры в город вошли и, что после ево на воеводцком дворе над воеводою учинили, того он не ведает. А по присмотру ево Муханова тех воров в то время з Дмитреевску было с 400 человек, а до приходу де их воровского воевода дмитреевской Титов для проведывания про них воров в казачьи городки посылал дмитреевских салдат почасту. И они де дмитреевские салдаты приезжали к нему Данилу в доездах, писали и на словах сказывали, что у них никакова воровства и вымыслу на твои государевы городы нет. И то де явно, что они посыльщики такой их воровской вымысел ведали и нарочно ему воеводе не сказывали. А х князь Петру Ивановичу Хованскому еще государь по первым царицынским и дмитреевским ведомостям писал, чтоб он послал на Саратов и в Дмитреевской, а будет мочно пройти и на Царицын, салдацкой полк. Ничего нам нималые отповеди о том не учинил и людей не послал. А ныне государь и по сим ведомостям писали ж, чтоб определил от себя кого ис товарыщех своих на Саратов, и конных бы и пеших с ним послал тысечи с полторы, чтоб также не пришли и воровством своим над Саратовым чего не учинили». [См. ИАИ Акад. Наук СССР. Архив Меншикова, карт. № 8, папка № 87 на 2-х лл.]
Сравним теперь рассказ офицера Дмитриевского гарнизона поручика Ивана Муханова с тем, как в камышинской летописи излагается взятие Дмитриевска воровскими казаками: «… но как в город попасть им было невозможно, то стояли у оного больше недели, и в то время подговорили городских воротников, которые стояли на карауле у ворот, (чтобы) их пустили в город. Оных же двенадцать человек, именно: Костарев и Поваров с товарищи, – коих обещались казаки взять с собою; почему те и пустили в город в ночное время. Тут казаки начали бунтовать, палить из ружьев, бить людей до смерти; испугавшиеся же люди, все жители притаились, где кто мог; а воевода уехал на остров. Поутру оные казаки, собрав всех жителей, спрашивали о воеводе; но как его не могли найти, то воеводшу посадили под караул на три дни, бритым людям головы рубили, а другим насыпали в пазухи камни и бросали с яру в воду, иных привязывали к деревьям, пускали по воде и палили по них из ружьев. Таковые буйственные поступки производили более шести недель, с тем намерением, покудова живущие не приведут к ним воеводу, и не выдут из города; когда же воевода был сыскан и привезен с острова, обросши уже бородою, то хотели его казнить, но от того упросили казаков все жители». [См. См. Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). Под редакцией М. М. Загорулько и И. О. Тюменцева. – Волгоград, 2010, с. 55].
В общем можно сделать вывод, что камышинская летопись, ошибаясь в датировке булавинского бунт и неверно называя имя тогдашнего городского воеводы, достаточно правдоподобно описывает взятие города булавинскими казаками с помощью изменников. Правда нетрудно заметить, что летопись, рассказывая об участии дмитриевцев в булавинском восстании 1707-08 гг., сильно преуменьшает число мятежных горожан и их вину. Тем не менее многие подробности, изложенные в летописи, подтверждаются историческими документами …
До нашего времени дошло, например, письмо коменданта Казани Н. Кудрявцева князю Александру Даниловичу Меншикову (1673 – 1729) от 15 июня 1708 г., в котором содержатся дополнительные сведения о действиях булавинских казаков, захвативших город: «… А майя ж 27 дня писали мы до вашей светлости, что воровские казаки в Дмитреевской город, что на Камышенке, вошли и к воеводцкому двору приступали. А ныне по подлинным ведомостям те воры в Дмитриевску пушки и порох и свинец побрали и из салдацких афицеров поймав побили, а воевода укрылся, а где ныне не ведомо. Только дом ево весь с пожитки, также таможенную и кабацкую и соляной продажи казну, всю побрали, и бурмистра прошлого 707-го году да 2 человека целовальников посадили в воду и выбрали 2-х человек, атамана да старшину, из дмитреевских салдат и велели им чинить право казачье, а соль велели продавать по 8 д. пуд (по 8 денег за пуд =16 кг, деньга – полкопейки – прим. В.Б.). И из Дмитриевского те воры пришли под Саратов и к Саратову приступали жестокими приступы. И саратовцы к их воровству не пристали и с теми ворами храбро и мужественно бились, и многих побили, и от города отбили, и те воры видя великой упадок и безсилие побежали вниз по Волге, знатно, что к Дмитриевскому. Да мы ж писали к Аюке и к Манкотемирю и к Чеметю калмыцким владельцем, чтоб они великому государю послужили и воровских казаков воровство искоренили, также как служили и усердие показали над астраханскими бунтовщики. И с теми письмами послали саратовского воеводу Никифора Беклемишева. И Аюка тайша и другие калмыцкие владельцы прислали на тех воров калмык 4000 человек, а с ними владельцы Манкотемир да Ямая, и к Саратову пришли, и ныне намерялись итить за теми ворами по Волге на низ … Из Казани. Июня дня 15. 1708». ИАИ Акад. Наук СССР. Архив кн. Меншикова, карт. № 8, папка № 161 на 2-х лл.



