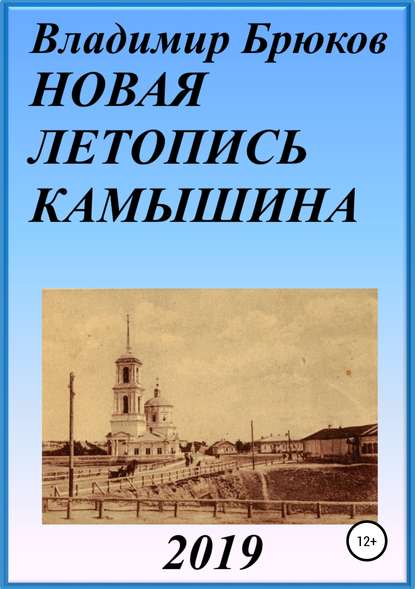 Полная версия
Полная версияНовая летопись Камышина
На наш взгляд, этот основанный на слухах рассказ Яна Стрейса вряд ли заслуживает доверия. В своей книге Стрейс сам указывает на источник этой информации: «Когда узнали в Астрахани, что бунтующие Москвитяне предали Камышин Разину, то считали себя безнадежно погибшими». [См. Ян Стрейс. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной). М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, с. 99]. Но, находясь в Астрахани, узнать правдивую новость о взятии Камышенки, Ян Стрейс не мог, поскольку сам он бежал из Астрахани накануне ее взятия разинцами в ночь на 22 июня. [См. Ян Стрейс. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной). М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, с. 210], а Камышенка была захвачена отрядом разинцев утром 22 июня 1670 г. При том уровне коммуникаций новость о взятии Камышенки в Астрахань могла прийти лишь через 3-4 дня, то есть уже после взятия последней. Поэтому можно предположить, что еще до взятия разинцами Астрахани, среди жителей этого города могли циркулировать ложные (т.к. город еще не был сдан) слухи о сдаче Камышенки изменившими московскими стрельцами, о которых и написал Ян Стрейс.
Тем не менее версия Яна Стрейса о предательстве московских стрельцов, хитростью сдавших Камышенку, в исторической литературе получила широкое распространение, поскольку иных источников по этому вопросу долгое время не было опубликовано. Гораздо большее доверие у автора этих строк вызывает «отписка» Василия Ловчина, головы московских стрельцов в Саратове: «1670 г. июля между 2 и 19. – Отписка головы московских стрельцов В. Лаговчина в приказ Тайных дел о взятии восставшими казаками Камышенки и о посылке разведчиков для собирания сведений об осаде казаками Астрахани. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю … холоп твой Васька Лаговчин челом бьет.
В нынешнем, государь, во 178-м году июня в 25 день (25 июня 1670 г. – прим. В. Б.) писал я, холоп твой, с Саратова к тебе, великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю … к Москве с стадным конюхом с Ваською Жюравлевым. – Вор Стенька Разин, проведав про астараханских ратных людей, которые твои великого государя ратные люди для промыслу шли из Астарахани на него, вора, и он, Стенька, с воровскими казаками в стругах и берегом коньми навстречю тех астараханских ратных людей пошел. Июня ж, государь, в 30 день прибежал снизу по нагорной стороне от Камышенки на Саратов московской стрелец Дмитреева приказу Полуехтова Ивашка Михеев сын Недозор, а мне, холопу твоему, в роспросе сказал. – Июня де, государь, в 22-м числе на первом часу дни (в переводе на современные часы – с 3 ч. 48 мин. и до 4 час. 48 мин. утра – прим. В. Б.), пригребли от Царицына воровские казаки человек с 300 в ясаульных стругах и в лотках х Камышенке. И воевода де Еуфим Панов, отворя городовые ворота, тех воровских казаков пустил в город, а бою де, государь, с ними никакова не учинил. И они де, воровские казаки, были в Камышенке 2 дни и из церкви иконы и твою великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича … всякую казну да 4 пушки полковых да 2 огненные пушки медные и воеводу Еуфима Панова и камышенских служилых людей взяли с собою. И побрав торговых людей струги, которые за ними, воровскими казаками, стояли на Камышенке, пошли со всем к Царицыну. И того ж де, государь, числа Камышенской город сажгли, а оставили де на камышенском городище 4 пушки чюдинные, железные. Да он жа де, Ивашка, будучи у тех воровских казаков на Камышенке, слышел в переговоре у воровского казака: как де он, вор Стенька Разин, с казаками пошел на низ и Черной Яр взял, а воеводу Ивана Сергиевского посадил в воду. А что де, государь, с астараханскими ратными людьми учинил, того де он, Ивашка, у того воровского казака не слыхал. Да он же, Ивашка, мне, холопу твоему, в роспросе сказал. – Слышал де он Ивашка, у того ж воровского казака в переговоре: вор Стенька Разин от Черного Яру пошел к Астарахани и стоит де подлинно под Астараханью, и всякое де, государь, дурно он, вор Стенька, над Астараханью хочет учинить. А про твоих великого государя астараханских ратных людей, которые посланы из Астарахани для промыслу на него, вора, и про Астарахань, – над Астараханью от него, вора, какова дурна не учинилось ли, – подлинных, государь, вестей мне, холопу твоему, нет, и на Саратов ведомости о том ни от кого не бывало. [См. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Том I, М., 1954, с. 184-185]
Из «отписки» Василия Ловчина мы узнаем: Во-первых, что город Камышенку сдал сам воевода Еуфим Панов, по всей видимости, по той же причине, по которой сдались Царицын, Черный Яр и Астрахань – из-за нежелания гарнизона, который сочувствовал разинцам, защищать город. Во-вторых, что в Камышенском гарнизоне, действительно, были московские стрельцы (в Саратов из захваченной разинцами Камышенки прибежал московский стрелец Ивашка Михеев сын Недозор), но сценарий сдачи города был не таким, каким его описал Ян Стрейс. В-третьих, что в Камышенской крепости в общей сложности имелось 10 пушек, то есть ее гарнизон был достаточно большим, чтобы попытаться дать отпор воровским казакам. В-четвертых, что в недавно построенной Камышенке была лишь одна церковь, поскольку иначе в «отписке» было бы тогда указано название храма, из которого воровские казаки вынесли государеву казну.
О сдаче Камышенки и ряда других низовых городов сообщил и пензенский воевода Елисей Лачинов: «1670 г., июля 5. – Отписка пензенского воеводы Е. Лачинова тамбовскому воеводе Я. Хитрово о взятии С. Разиным Царицына, Камышенки и Черного Яра и о сдаче ему войска воеводы С. Львова.
Списак з грамотки слово в слово.
Милостивому государю моему Якову Тимофеевичю Елисейка Лачинов челом бьет.
Буди, государь мой, здоров на многия лета со всем своим благодатным домом, а я желаю твое государя своего здоровье ежечастно слышать. Челом бью тебе, государю своему, что жалуешь, ко мне пишешь о своем здоровье. И я, слыша твое государя своего здоровье, тем и пользуюсь. А естли, государь мой, изволишь про меня воспомянуть, и я на службе великого государя на Пензе июля по 5 число в кручине своей насило жив. Да ведомо тебе буди, благодателю моему, про низовые вести. Июня в 27 день гнали из Саратова к Москве конюхи, а сказывали мне про вора Стеньку Разина, что де Царицын и Камышенку и Черной Яр взял и воевод побил. И высылка из Астарахани от боярина от князя Ивана Семеновича Прозоровского с князь Семеном Львовым за ним, вором, была, и он де тех посылыциков побил и князь Семена Львова в воду посадил. Да те ж конюхи сказывали мне, что де на Соратове четыре конюхи для прямых вестей покинуты. По сем тебе, благодателю своему, преклонше колени, рабски много челом бью». [См. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Том I, М., 1954, с. 186]
Судя по документам, московские стрельцы в Камышенке несли годовую службу, то есть находились временно. Причем, как следует из другой «отписки» тамбовского воеводы Яна Хитрово, многие из московских стрельцов не захотели присоединяться к разинцам, фактически оказавшись относительно более благонадежной частью Камышенского гарнизона: «1670 г. июля между 17 и 21, – Отписка тамбовского воеводы Я. Хитрово в Разрядный приказ о сожжении отрядом казаков Камышенки и продвижении казаков вверх по Волге. Государю царю и великому князю Алексею Михайловичи) … холоп твой Янка Хитрово челом бьет.
В нынешнем, государь, во 178-м году июля в 8 день посылал я, холоп твой, ис Тонбова на Пензу для проведыванья вестей про воинских людей станичников, вожа Стеньку Лопосова с товарищи.
И июля ж, государь, в 17 день те станичники приехали в Танбов и подали мне, холопу твоему, отписку Нижнева города Ломова стольника и воеводы Кирила Хлопова, а в отписке, государь, ево написано. – Июля де в 5 день писал к нему в Нижней город Ломов с Ынзары воевода Петр Скорняков-Писарев по отписке с Саранска стольника и воеводы князя Никиты Приимкова-Ростовского. – Июня де в 29 день прибежал в Саранск жильца Михайлов человек Панова Гришка Яковлев с Саратова в 5-ой день, а в роспросе де перед ним, князь Никитою, скозал. – Был де он в Соратове с Яковлевым человеком Панова для лошединой покупки. И как де он с Саратова поехал, и переехал Волгу от Саратова на нагорную сторону. И к монастырю де // приплыли снизу Волгою рекою саратовские рыбаловы 6 человек в лотках и сказавали де им, Гришке. – Плыли де они с Саратова Волгою на низ для рыбные ловли, и от Соратова де в 20-ти верстах встретились с ними московские стрельцы в лотках же, которые были на твоей великого государя службе на Камышенке. И воротили де их те московские стрельцы назад, а сказали де им, что де вор Стенька Разин с воровскими казаки город Комышенку выжех, а воеводу камышенского Еуфима Панова повесели. И они де, стрельцы, из города Камышенки ушли. А идет де он, вор Стенька, Волгою к Саратову, да и конница де с ним берегом идет же да Саратова за 60 верст об Охматове острове. [См. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Том I, М., 1954, с. 219].
О том, что московские стрельцы были ненадежными попутчиками Степана Разина можно также сделать вывод из другого письма пензенского воеводы Елисея Лачинова тамбовскому воеводе Якову Хитрово, написанного 23 сентября 1670 г. Помимо прочих событий в этом письме рассказывается об обстоятельствах гибели камышенского воеводы Ефима Панова, взятого в плен разинцами, которого они сделали гребцом. Во время осады Симбирска Ефим Панов подговорил 30 московских стрельцов убежать из разинского войска, что они и сделали. Однако Разин послал за ними погоню, которая в 100 км западнее Симбирска в городе Карсуне (сегодня это райцентр и посёлок в Ульяновской области – прим. В.Б.) настигла беглецов, где их всех и порубили. В письме, в частности, сообщается следующее: «Господину Якову Тимофеевичю Елисей Лачинов челом бьет. В нынешнемъ во 179-м году сентября в 17 день писал с Саранска воевода Матвей Вельяминов ко мне на Пензу с посылщики моими с татарином Тепкайкою Кучаковым с товарыщи, а в отписке ево написано: в нынешнем во 179-м году сентября в 11 день посылал де он, Матвей, с Саранска в Синбирск к околничему и воеводе к Ивану Богдановичю Милославскому проезжею станицу, служилых татар Алтыбайку Баксутина с товарищи, для проведыванья вора и изменника Стенки Разина, и сего ж де месяца в 14-м числе те татаровя, Алтыбайка с товарищи, прибежав в Саранск, перед ним, Матвеем, вроспросе сказали: доезжали де они за реку Суру до татарские деревни, и той де деревни татарин, а как де ево зовут, и он того не ведает, сказал ему, Алтыбайку, что де он из Синбирска ушол из осады, а Синбирск де рубленой город цел, околничий и воевода Иван Богданович Милославской сидит в осаде, ожидает себе на выручку в. г. (великого государя – прим. В. Б.) ратных людей и подле городовых стен укрепил крепости, уклал де мешками з землею, и с солью, и с мукою, и укрепя, сказал: «хотя де помереть, а вору не здатца».
А город де Карсун взят, и воевода з женою и з детми и подьячих, и затинщиков, и пушкарей тритцать человекъ побиты и перерублены на смерть, и атаманы де в Карсуни построены, и карсунские де жилецкие и уездные всяких чинов люди крест целовали. Да тот жа де вор Стенка привез с собою в гребцах камышенского воеводу Юфима Панова, и он де, Юфим, в Синбирску подговорил с собою тритцать человекъ московских стрелцов и с ними из Синбирска побежал, и ево де, Юфима, и стрелцов, догнав в Карсуни, Стенкины посылщики порубили всех на смерть. …». (Разряд, Белгородский стол, № 692, лл. 348 – 350., копия отписки Е. Лачинова к Я. Т. Хитрово (23 сентября), посланная им в Разряд»). [См. Крестьянство и националы в революционном движении. М.-Л., 1931, с. 15].
Сколько лет не восстанавливали Камышенку
После сожжения Камышенки она почти 30 лет перестает упоминаться в исторических документах. В 1670 г. известный голландский картограф и гравер Ян Виллем Блау (1596 – 1673) выпустил «Новое точное описание течения Волги, ранее Ра называемой» (Nova & Accurata Wolgae Fluminis, olim Rha dicti, delineation), на которой нет города Камышенки, но зато обозначена речка Камышинка (Kamushinski fluv.) и Камышинские горы (Kamusinski mons) – см. рис. 3. Надо сказать, что это была, пожалуй, первая иностранная карта, на которой появилась речка Камышинка, как впрочем, впервые появились на карте и названные Камышинскими горы, которые тянутся вдоль правого берега Волги, являясь частью Приволжской возвышенности.

Рис. 3. Карта Волги 1670 г. известного голландского картографа и гравера Яна Виллемв Блау
О том, что разрушенную разинцами Камышенку не стали восстанавливать, свидетельствует, например, тот факт, что ее не упоминают в перечне городов Астраханской епархии, в которых имеются церкви. В 1683 г. астраханский митрополит Савватий в своем челобитье на имя государей Иоанна и Петра Алексеевичей, говоря о бедности своей епархии, писал следующее: «а епархии Астраханской и Терской всех церквей – в Астрахани, и на Терек, и на Яике, и на Красном и на Черном Ярах, и на Царицыне, и на Саратове – соборных, приходских и ружных (живущие на выдаваемом им казенном жаловании – прим. В.Б.) всего 39, а в уездах, кроме чужеземцев и басурман, нет никого» [Дополнения к Актам Историческим. СПб. X том, № 83, с. 397].
В ту религиозную эпоху сам факт отсутствия Камышенки в списке городов, имеющих свою церковь, фактически означал, что этого населенного пункта вообще не существовало, поскольку тогда при постройке любого города храм обязательно строился. Как мы уже знаем, в построенной в 1668 г. Камышенке, которую разинцы сожгли в 1670 г., также имелся один свой храм.
Сожженная разинцами Камышенка не была восстановлена и к лету 1695 г., о чем говорит запись в журнале поденной записи первого Азовского похода. 5 июня 1695 г. мимо устья реки Камышенки проследовала флотилия под командованием адмирала Лефорта. На ее флагманском корабле находился царь Петр Первый. При этом сам факт прохождения мимо р. Камышенки был записан в журнале таким образом: «… в седьмом часу проплыли реку Камышенку и место, где бывал город Камышенок, который разорил Стенка Разин, а та речка впала с правой стороны; против той речки остров Камышенский …» [Походные и путевые журналы императора Петра I 1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702 … Изданные по современному списку. Походный журнал 1695 года. СПб., 1853, с. 12.]
Таким образом из записи в журнале поденной записи первого Азовского похода напрашивается вполне очевидный вывод, что по прошествии 25 лет после своего разрушения город Камышенка так и не был восстановлен. Кроме того, можно также предположить, что остатки разрушенного города были хорошо видны для тех, кто плыл по Волге. Поскольку город был сожжен, то, по всей видимости, наиболее сохранившейся и видимой с Волги его частью был земляной вал.
Вместе с тем, до нашего времени дошел исторический документ, свидетельствующий о том, что временные воинские караулы в некоторые годы появлялись на месте разрушенной Камышенки и после 1670 г. В составленной в феврале 1722 г. «сказке» 87-летнего казанского дворянина И. Г. Нагирина, в котором он рассказывает о своей государевой службе, в частности, говорится следующее: «И был в крымском походе на службе в полку боярина и воеводы, князь Володимера Дмитреевича Долгорукова. А в другом крымском походе был в полку боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева. А после был на службе на Камышенке во 196-м году (1688 г. от Р. Х. – прим. В.Б.) в полку князь Андрея Федоровича Шеховского. И был на службе на Сызране в полку стольника Степана Афонасьевича Сабакина во 197-м. А во 198-м году (1690 г. от Р. Х. – прим. В.Б.) был на Камышенке ж в полку стольника, князь Петра Ивановича Дашкова. И по розбору в Казани Александра Сергеева от полковы службы отставлен. [Архив рода Нагириных // Эхо веков, № 3/4. 2002, c. 61].
По всей видимости, размещаемые на Камышенке воинские гарнизоны могли там находиться с целью защиты торговых караванов от воровских казаков с апреля по ноябрь, то есть на весь период судоходства по Волге. При этом в качестве своего укрепленного пункта временный камышенский гарнизон мог использовать оставшийся от сожженной разинцами Камышенки земляной вал и прочие укрепления.
Попытка Петра I соединить Волгу с Доном у Камышенки
Строительство канала между Камышенкой и Иловлей
Второй Азовский поход 1696 года, по итогам которого русские войска под командованием Петра I 19 июля взяли турецкую крепость Азов, сыграл важнейшую роль во втором основании города Камышина, восставшего из пепла под именем Дмитриевска. Обрадованный викторией над Турцией царь утвердил план по перестройки Азовской крепости, приказал начать строительство Таганрога в качестве базы военно-морского флота, а также утвердил программу строительства новых военных судов на воронежских верфях. Тогда же к Петру I пришла идея построить канал, который должен был соединить Волгу с Доном, что позволило бы доставлять на воронежские верфи корабельный лес с верховьев Волги, а также обеспечило бы проход волжских судов к Азову и далее в Азовское и Черное море. В конечном итоге решено было построить этот канал в том месте, где Волга и Дон максимально сближаются с друг другом через свои притоки –Камышенку и Иловлю.
Весьма любопытно, что соединение Волги с Доном активно обсуждалось в беседах с иностранцами (в т. ч. и с учеными) во время поездки Петра I с «великим посольством» в Западную Европу в 1697-98 гг. В неопубликованных бумагах известного немецкого математика и философа Лейбница (1646–1716), хранящихся в Ганноверской библиотеке, было найдено следующее письмо: «Мелле (маленький город близ Оснабрюкке – прим. В. Герье), 27 ноября 1697 г.
Я имел честь видеть в Ларе (также близ Оснабрюкке– прим. В. Герье) посланника фон Штейнберга и находившегося при нем барона фон Гагена, который состоял на службе шести саксонских герцогов. Они чрезвычайно хвалили здравый ум великого князя Московского (Петра I – прим. В.Б.) и его искусство в кораблестроении; он сделал в нем такие успехи, что числится вторым по достоинству и по жалованью между корабельными мастерами (maîtres charpentiers). Он надеется извлечь большую пользу из этого искусства и дал понять, что намерен соединить Волгу с Азовским морем (avec la mer de Zabache, appelée autrement Palus Maeotis), чтобы напасть на турок с этой стороны». [См. Владимир Герье. Лейбниц и его век. Отношения Лейбница к России и Петру Великому. СПб, 2008, с 599].
В своей книге, два тома которой впервые были изданы в 1868 г. и 1871 г., известный русский историк Владимир Герье (1837–1919) также сообщает, что нашел в неопубликованных бумагах Лейбница начерченный его рукой проект Волго-Донского канала, скопированный им с плана, набросанного Федором Головиным (1650–1706), то есть одним из трех полномочных послов петровского «великого посольства». У Лейбница этот проект озаглавлен таким образом: «Locus canalis Tanain Volgae conjuncturi, designatus manu domini Golovini legati Moschici 1697» («Проект канала, соединяющего Дон с Волгой, подписанный рукой г-на Головина, московского посла» – прим. перев.). На этом проекте изображено течение Дона и Волги с их притоками Иловлей и Камышенкой, причем последние две реки соединены каналом. [См. Владимир Герье. Лейбниц и его век. Отношения Лейбница к России и Петру Великому. СПб, 2008, с 599].
В донесении резидента Плейера своему цесарю (австрийскому императору) Леопольду I от 28 марта 1697 г. сообщается об укреплении русскими недавно захваченного у турок Азова, а также о намерении Петра I соединить каналом Волгу и Дон в том месте, где эти реки наиболее близко сходятся. В этом случае появился бы водный путь из Москвы по Волге и Дону до Азова. По словам Плейера, для этих целей весной 1697 г. было собрано 20 000 человек, работой которых руководил иностранец Брекель. [См. Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Том третий. СПб, 1858, с. 633].
Если строительством Волго-Донского канала Петр I сначала поручил заниматься немецкому инженеру Брекелю, то за посылку людей и материалов на Камышенку отвечал глава приказа Казанского дворца князя Бориса Голицына (1651/1654 – 1714). В своих записках российский дипломат и московский служилый дворянин Иван Желябужский (1638 – умер после 1709) об одном из событий 1697 года написал следующее: «А боярин князь Борис Алексеевич Голицын ходил водою и был в поднизовых городах, и на Царицыне, хотели перекапывать реку, а посошных людей всех городов было 35000; и ничего они не сделали, все простояли напрасно, и боярин Борис Алексеевич был у Аюки». [См. Записки Ивана Желябужского //Записки русских людей. События времен Петра Великого. Сост и изд. И. П. Сахаров. СПб., 1841, с. 52-53].
Аюка (1642–1724) – хан астраханских калмыков, с которым глава приказа Казанского дворца князь Борис Голицын заключил договор, впоследствии включенный в Полное собрание законов Российской империи: «1591. – Июля 17. Договорныя статьи, учиненныя на река Камышенке, между калмыцким ханом Аюкою и боярином князем Борисом Голицыным. – О пособии ему с Российской стороны огнестрельными орудиями в случае похода его против Бухарцов, Каракалпаков и Киргизцев, о свободном ему при всех Российских селениях кочевании, о вспоможении ему в случаях нападения на него Крымцов, о штрафе за крещение Калмыков без особеннаго указа и о защищении Хана от Донцов и Башкирцов.
В нынешнем в 7205 году Июля в 15 (15 июля 1697 г.) по указу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца Боярин Князь Борис Алексеевич Голицын был для осмотрения низовых городов и строения новыя черты и шлюзнаго дела на реке Камышенке.
И по многим пересылкам, Калмыцкой Аюка пришел к той же реке Камышенке со многими своими ближними и лучшими улусными людьми, а не доходя, наперед себя прислал ближних своих людей Чнитея и Эджу в обоз к Боярину ко Князю Борису Алексеевичу на устье реки Камышенку говорить об месте, где ему стать, и по обсылке стал от устья реки Камышенки в 5 верстах.
И Июля в 15 день прислал он Аюка ближних своих людей, где б с Боярином со Князем Борисом Алексеевичем свидеться; и Князь Борис Алексеевич к нему против того посылал и положился в том на его разсуждения, где ему удобнее видеться; и по многим пересылкам , приказал он Аюка поставить себе ставку близко обоза Князя Бориса Алексеевича и от себя с стану поехал со всеми своими ближними людьми; а перед собою о том послал весть: и Князь Борис Алексеевич выехал к нему на половину дороги и с ним , по обыкновению, поздравлялись на лошадях, и поехали до палаток вместе, и были в палатках , и звал его Князь Борис Алексеевич к себе обедать, и он говоря, с своею старшиною сказал, что ехать ему за рогатками и за пушками и за многолюдством в обоз невозможно, и Князь Борис Алексеевич приказал рогатки все откинуть и людей свесть, а оставляет малое число на караулах, и он Аюка, о том по свидетельствовав, поехал в обоз со всеми своими владельцы и ближними людьми, во многолюдстве, и обедал, и после обеда сидя довольно, поехали в свои таборы …». [Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649 – 1825). Том III. 1689 – 1699 гг. Под ред. М. М. Сперанского. СПб., 1830, с. 329-330]
Договор между ханом Аюкой и главой приказа Казанского дворца был заключен 16 июля 1697 г., то есть на следующий день после их первой встречи. Но здесь нам важно то обстоятельство, что встреча произошла на реке Камышенке. При этом калмыцкую делегацию во главе с ханом позвали обедать в палатках, а обоз князя Бориса Голицына стоял, огражденный «рогатками и за пушками». Следовательно, города здесь еще не было, но так как глава приказа Казанского дворца приехал сюда, в том числе и для шлюзнаго дела на Камышенке, то можно сделать вывод, что начавшиеся весной 1697 г. работы по строительству канала летом уже были в полном разгаре.
Сохранилась записка Петра I к главе Адмиралтейского приказа (будущему адмиралу и одному из создателей российского флота) Федору Матвеевичу Апраксину (1661-1728), датируемая 1697 годом, в котором есть такие строки: «Есть ли время будет, осмотреть и слюзов на Камышенке» [См. Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. М., 1788, ч. X, с. 19]. К сожалению, точная дата написания этой записки неизвестна, но судя по ее характеру можно предположить, что она была написана в конце лета или в начале осени 1697 г., когда пришло время проконтролировать итоги первого сезона работы по строительству канала.
Нам неизвестно, нашел ли тогда Федор Апраксин время побывать на Камышенке, но зато хорошо известно, что в целом ход этих работ очень сильно не понравился курирующему немецкого инженера начальству. А ожидавший больших неприятностей немецкий инженер Брекель предпочел через несколько месяцев бросить строительство канала и тайно покинуть страну. О его тайном отъезде Петру I, находившемуся тогда с «великим посольством» в Детфорде (юго-восточный район Лондона), сообщил в своем письме от 16 февраля 1698 г. его ближний окольничий (второй после боярина чин в Боярской думе) и будущий астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин (1659 – 1728), брат адмирала Федора Апраксина. В своем ответе П. М. Апраксину от 26 марта 1698 г. Петр I так прокомментировал это неприятное для него событие: «Тут же пишешь, что полковник Брекель проехал тайно за границу, и то зело худо, что таково оплошно у вас; можно было покрепче смотреть в том. А здесь не токмо иной кто, но и сами короли каждому проезжую подписывают своею рукою …» [См. Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб, 1887, том I (1688 – 1701), с. 242]



