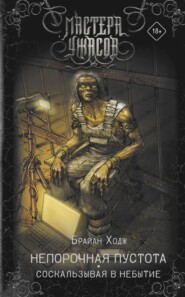скачать книгу бесплатно
Все, что не являлось частью самой постройки, давно уже пропало. Пол был кирпичный – из того же кирпича, что и печь, которая вытянулась вдоль задней стены и напоминала яму для барбекю. Встроенный верстак выжил, как и панель для инструментов, прикрученная к боковой стене. На дальней стене остались примитивные полки – параллельные деревянные доски с промежутком между ними, куда можно было положить молотки, пассатижи, ножницы. Все остальное уже много лет назад вывезли как улики или растащили. По углам скопились мертвые листья, над ними висела паутина. Когда Таннер поддел ботинком одну из валявшихся на полу смятых пивных банок, она со звоном прокатилась по пятну втоптанного в кирпич сигаретного пепла.
Здесь граффити было еще больше – слои мыслей, которые годами оставляли на стенах скучающие детишки. О тех, кого они ненавидели, о тех, кого любили. Попытка призвать духов обитала рядом с чьим-то заявлением, что Уэйд Шейверс гниет в аду.
Таннер поднял руку, провел пальцами по центральной балке и нашел четвертьдюймовое отверстие, оставшееся от крюка, куда Шейверс подвешивал лебедку, c помощью которой добивал детей. Двадцать два года назад он как раз поднял Дафну с пола и закрепил веревку, когда к дому подъехала полиция. Если бы они опоздали всего на пару минут…
Шейверс признался, что на этом этапе всегда затыкал детям рот кляпом. Но все равно Дафна издавала такие звуки, что копы выломали дверь. Шейверс не сопротивлялся. Он просто отложил молоток с круглым бойком на верстак и поднял руки, а Дафна тем временем висела, подвешенная за запястья, избитая, истекающая кровью, с содранной кожей, задыхающаяся из-за ветоши, засунутой ей в рот.
На суде полицейские говорили, что Шейверс умолял их дать ему довести дело до конца. Это будет милосердно, говорил он… и самым худшим, о чем только мог вспомнить Таннер, было то, что за последующие годы он не раз слышал, как Дафна в мрачнейшие моменты своей жизни заявляла, будто Шейверс был прав и они должны были позволить ему взмахнуть молотком, прежде чем заковать в наручники и увезти, – последнее свободное деяние в его последний свободный день на земле.
Таннер присел перед печью – ее железная дверца перекосилась, а отверстие в грязной кладке походило на рот, прямой снизу и полукруглый сверху. В сарае было темно, но не настолько, чтобы Таннер не смог разглядеть почерневшие от сажи кирпичи. Оттуда выскребли все, что могло пригодиться экспертам, но отчистить печь они бы никогда не смогли.
Эту часть истории не знал никто, о ней не говорилось на суде, потому что Шейверс об этом никогда не упоминал, а Дафна вспомнила лишь десять лет спустя, под гипнозом.
Таннер потянулся внутрь, медленно, словно опасаясь, что его что-то укусит. Воздух внутри казался странно холодным, холоднее, чем в самом сарае, холоднее, чем должен был быть даже в солнечный осенний день.
А потом он отдернул руку так же быстро, как если бы обжегся, потому что услышал стук в открытую дверь.
* * *
До гипноза я не помнила о том, как Уэйд Шейверс заставил меня встать на четвереньки, чтобы он смог затолкнуть мои голову и плечи в кирпичную печь.
В первый раз это воспоминание вывело меня из транса, потому что тогда, в шестнадцать лет, я уже знала, что одного из нас он сжег. Я сегодняшняя слилась со мной тогдашней и испытала животный ужас, переживая это снова, но теперь зная, что в этой почерневшей полости меня окружают следы Броди Бакстера. Там до сих пор лежал пепел, скорее всего оставшийся от него. Часть запекшейся на стенках корки, должно быть, была обгоревшим жиром. Я наверняка вдыхала его молекулы.
И дело не в том, что Уэйд Шейверс был больным чудовищем. Это был не очередной способ, которым он решил помучить меня. Если бы дело обстояло так, он бы наверняка уже рассказал мне, что произошло в этой печи. Я помню, как думала, что он, должно быть, такой же, как ведьма из сказки про Гензеля и Гретель, и умоляла его не жарить меня. Если бы Шейверс хотел напугать меня еще сильнее, ему всего лишь нужно было дать мне понять, что такая возможность существует.
Но на самом деле он нуждался в… стороннем мнении?
«Скажи мне, что там. Скажи мне правду, и я позволю тебе вылезти».
«Тут воняет!»
«Это я уже знаю. Это кто угодно скажет. А еще что?»
Я не знала, какой ответ будет правильным, а какой – нет, и не знала, что вообще он хочет услышать и не подумает ли он, что я вру, потому что…
Потому что как может печь быть такой холодной в середине лета? Не вся, даже не большая ее часть, всего лишь одно место у задней стенки. Здесь слишком темно, а значит, это не огонь, но оно все равно обжигает. Начинает казаться, что я прижалась щекой к кусочку льда или к флагштоку в зимний день, и щека онемела. И я не просто прилипла, как если бы лизнула флагшток; оно оттягивает мою кожу – так бывает, если приложить руку к шлангу пылесоса без насадки, – а когда я поворачиваю голову, чтобы оно перестало жечься, мне приходится зажмуриться, потому что иначе оно высосет мне глаз.
И я знаю, что плохой дядя никуда не делся, я чувствую его тяжелую руку на пояснице и большую потную ладонь с растопыренными пальцами на спине. Каждый палец – словно ветка, проросшая в мои кости, чтобы удержать меня на месте. Но я больше не слышу его. Моя голова теперь так далеко, что сзади до ушей не доносится ни звука. Я едва слышу, как дышу, или плачу, или пытаюсь объяснить ему, каково тут, в печи. Здесь так тихо, что тишина сама превратилась в звук и заглушает все остальное, и я боюсь, что если он продержит меня здесь еще немного, то сначала улетит мой глаз, а за ним последует и все остальное, словно большая и длинная нитка спагетти. То, что скрывается здесь, внутри, меня проглотит.
Я не хочу, чтобы это случилось, не хочу туда. И при этом… хочу. По крайней мере, возможно, что тогда я попаду в место, где мне больше не будут делать больно. Но вдруг мне там не сделают больно только потому, что там нет никого, вообще никого, а это может оказаться еще хуже.
А потом он выдергивает меня из печи и смотрит на мою щеку, удивленный: что это, откуда оно взялось?
«Я буду хорошей, – вот что я ему говорю. – Я не хочу, чтобы меня жарили. Я буду хорошей».
Он смеется так, что это не похоже на смех.
«Не бойся. Я больше не могу разжечь там огонь. Даже когда просто хочу согреться. С тех пор, как… Это он его задувает. Но все хорошо. Мы можем заняться другими вещами».
И мы ими занялись.
Когда я сидела в безопасности, в одном из уютных кресел доктора Ганновер, и воспоминания вернулись ко мне свежими, отмытыми от грязи, сажи и пепла, я поняла, что Уэйд Шейверс, должно быть, делал это с каждым из нас, кого похитил после Броди. «Ну-ка, полезай туда». Что, во имя тварного мира, оставил там после себя этот странный паршивец?
* * *
На мгновение он и стоявшая в дверях пожилая женщина застыли, глядя друг на друга, и Таннер ощутил вину за то, что его застукали на месте преступления – каким бы оно ни было. Может ли это считаться проникновением со взломом, если двери уже были распахнуты?
– Ты ведь мальчишка Густафсонов, да? – спросила она наконец.
Он не ожидал, что его узнают. Родители увезли их отсюда через несколько месяцев, за восемьдесят миль от Черри-драйв.
– Раньше был, да.
– Я – миссис Рэмсиджер. Живу через дом, на той стороне улицы. Я увидела тебя в окно. Но ты не похож на обычных поганцев, которые тут ползают. Так что я решила сначала заглянуть сюда, прежде чем снова вызывать полицию.
Она была одета в джинсы и мешковатую футболку и, хотя кожа ее огрубела и покрылась морщинами, а волосы стали белыми как снег, выглядела здоровой и подтянутой – одна из тех женщин, которые не намерены расставаться с садовой лопаткой, пока кто-нибудь не вытащит ее из их холодных мертвых пальцев.
– Ты меня, наверное, не помнишь. Я смотрела, как вы растете, когда проезжала мимо вашего дома по пути сюда. А на Хеллоуин вы с целой толпой приходили к нам за конфетами.
Из прошлого, спотыкаясь, выбрели воспоминания: средних лет семейная пара, которой Хеллоуин и раздачи сладостей были настолько по душе, что каждый год она устраивала огромную выставку тыкв, картонных надгробий и висевших на деревьях призраков. Ни один ребенок не мог устоять перед таким приглашением, и награда за это всегда была первоклассной.
– Я помню, – ответил Таннер. – Значит, вы так отсюда и не уехали? Большинству людей не захотелось бы, проснувшись поутру, видеть через дорогу этот дом.
Миссис Рэмсиджер провела рукой, тонкокожей и покрытой венами, по дверному косяку.
– Мы с мужем говорили о переезде. Но решили, что с тех пор, как это место опустело, оно нуждается в присмотре больше, чем мы нуждаемся в побеге от него. С нашим-то домом все в порядке, так с чего бы нам позволить этому нас выселить?
Она посмотрела на землю.
– В первые несколько лет я постоянно срезала цветы и приносила сюда. Укладывала их рядом с дверью и еще там, где кончается двор и начинается лес. Наверное, не стоило мне бросать эту привычку.
Она снова подняла взгляд и посмотрела на лес вдали, словно там все еще оставались могилы.
– Они до сих пор заслуживают цветов, тебе не кажется?
– Не знаю. Наверное, мертвым проще отпустить прошлое, чем живым.
– Будем надеяться, что это так. – Она похлопала себя по груди; из-под футболки донесся глухой стук. – Я и мое сердечко. А вот ты… Не знаю, издалека ли ты приехал, но тебе точно не просто улицу нужно было перейти, чтобы сюда добраться.
Она посмотрела на него, не моргая и не ожидая ответа, просто даря ему слегка печальную улыбку: улыбку женщины, которой хотелось бы, чтобы ее воспоминания были лишь слегка грустными – воспоминания о том, как она дарила конфеты детям, которые просто выросли и уехали, не чувствуя нужды возвращаться.
– Не спеши. Проведи здесь столько, сколько тебе нужно. А потом я посмотрю, не найдется ли у меня немножко цветов для… тех, кому они могут быть нужны. На случай, если кому-то станет легче, когда они поймут, что их не забыли. Что за них до сих пор молятся, если им это важно. Да даже если и не важно.
– Спасибо вам, – прошептал Таннер. – Я расскажу ей об этом, когда увижу.
Слово «если» он выговорить не смог.
Когда миссис Рэмсиджер оставила Таннера одного, ему захотелось, чтобы данное ею обещание что-то значило, что-то большее, чем само это действие: выбрать несколько цветков за их красоту, перерезать стебли, отделяя от того, что питало их, а потом бросить у двери, когда-то скрывавшей убийства детей, чтобы цветы увяли, побурели и сгнили, и никто об этом не узнал, и ничего от этого не изменилось.
Таннер снова уселся на корточки возле печи и засунул в нее руку, шаря в пустоте. Ладонь обдало холодом, и что-то слабо потянуло за кожу.
Дафна рассказывала об этом ощущении десять лет спустя, но он ей не верил. Из-за того, что эти воспоминания пришли к ней под гипнозом, они всегда казались ему подозрительными – памятью, приклеенной на место с помощью внушения; возможно, это вообще был какой-то другой случай, который годы связали с тем, что она пережила здесь. Он верил, что Дафна в это верила, и этим ограничивался.
Если Уэйд Шейверс не мог разжечь огонь в печке, дело было в его криворукости. А не в том, что кто-то или что-то этот огонь задувало.
И все же кусочек тех дней сохранился здесь до сих пор.
Если все действительно происходило так, как рассказывала Дафна, это могло объяснить одну вещь – не как она появилась, но хотя бы что это такое. Тем летним днем, когда ее вынесли из сарая живой, у нее на щеке был ожог размером с монету, красный и вздувшийся. Они думали, что это след еще одной пытки, которой подверг ее Шейверс, – например, раскалил круглый боек молотка с помощью пропановой горелки и использовал его как клеймо.
Только в следующие дни пятно повело себя не как тепловой ожог. Оно почернело и в конце концов слезло, обнажив под собой заживающую розовую кожу.
Врачи в больнице сказали, что это было похоже на обморожение.
С одной стороны приземистой печи торчал рычаг, железный с деревянной ручкой. Сейчас он был поднят – это значило, что дымоход открыт. Таннер давил на него всем весом, пока ржавчина со скрежетом не поддалась и вьюшка не закрылась, отрезая трубу.
Он собрал несколько горстей хрупких осенних листьев, сложил их внутрь и поджег зажигалкой. Они пылали и сворачивались, пока, наконец, не осталось ничего, способного гореть. Дым, который не мог уйти через дымоход, должен был остаться внутри, и поначалу так и было… но потом Таннер увидел, что он все равно рассеивается, исчезая в какой-то точке в середине топки. Дым медленно уплывал вглубь, словно его что-то затягивало, словно кто-то показывал фокус с сигаретой. На мгновение Таннер увидел, что это было – сфера величиной с желудь, размытая и нечеткая по краям, но более очевидная в центре – а затем, вместе с остатками дыма сгоревших листьев, она скрылась из виду.
Но он все еще чувствовал ее. Холод никуда не делся.
Теперь он верил, и не только в ее существование, но и в то, что раньше она была сильнее. Он верил, что она оставила на Дафне свой след, вечное клеймо, рану, которая пыталась зажить, но так и не смогла до конца излечиться от холодного, сухого, тянущего прикосновения сферы.
Его сердце сжималось при мысли о том, что внутри Дафна ощущала это притяжение с тех самых пор.
* * *
Я из тех покупательниц, которых обожают производители косметики: они никак не могут нам помочь, но мы все равно возвращаемся. Пока жива надежда, будут и платежи по банковской карте.
Это круглое пятно сухой кожи на левой щеке, там, где я заработала обморожение в печи Уэйда Шейверса… нет таких увлажняющих кремов, лосьонов или гелей, которые могли бы смягчить его, разгладить и сделать пухлее. Оно смеется над маслом ши. Оно поглощает петролатум. Оно проглатывает продающиеся по сотне долларов за унцию эксклюзивные кремы, которые синтезируются из центрифугированных стволовых клеток, взятых у специально выведенных девственниц чистейшей атлантской крови, и говорит: «Вкуснятина! А еще у тебя чего есть?»
Оно со мной с тех самых пор. За два десятка лет ничего не изменилось. Все остальное зажило так хорошо, что к тому времени, когда я перестала быть нимфеткой, я уже могла носить бикини, и вам пришлось бы долго присматриваться, чтобы увидеть то, что осталось от шрамов.
Но оно сохранилось. Это дурацкое сухое пятно размером с пятицентовик, оставленное холодным шаром, который я не могла увидеть, а только почувствовала. Масляные фабрики пубертатного периода его не устрашили. Это шрам, о котором забыло время.
Благодаря ему я впервые услышала слово «психосоматика». Но гипноз оказался столь же неэффективным лечением, как и все остальное.
Пятно помнит.
Мне говорили, что Уэйд Шейверс старался не оставлять следов на лицах пленников-детишек. Все, что ниже шеи, было для него законной добычей, и в паре случаев он пробивал затылок, но красивенькие личики ему портить не хотелось. Это, видимо, доказывает, что даже у чудовищ бывает чувство эстетики.
До тех пор, пока я не могу с ним справиться, это проблемное пятно – мой триумф над ним. Я смеюсь последней, Уэйд. Видишь? Ты облажался и оставил отметину. Узри мою чешуйчатую кожу, уебок поганый, и отчайся.
Третья фаза
Конечно, кажется, словно тут природа хочет искоренить человеческий род, как вещь ненужную для мира и портящую все сотворенное.
Леонардо да Винчи[5 - Перевод А. М. Эфроса.]
Мы познакомились на йоге. Обычное дело.
Позже я говорила себе, будто это была моя идея, будто я наконец-то решилась пойти на йогу после того, как столько лет планировала это сделать, – и это правда. Я всегда думала, что йога должна мне помочь, если только я соберусь ею заняться. Кое-что в теле – мышцы и суставы – всегда казалось слишком напряженным: я винила в этом травмы, полученные в тот день в сарае; мне вообще было очень удобно сваливать все на сарай.
Даже я сама замечала, что чрезмерно полагаюсь на это объяснение. На то, с чем никто не может поспорить. Когда у тебя есть оружие, мгновенно обесценивающее чужую позицию, ты на него подсаживаешься, как на своего рода эмоциональный «Оксиконтин». Извини, мама, я не могу сегодня сделать уборку. Сарай, сама знаешь. Прошу прощения, я не могу справиться со стрессом от выпускных экзаменов на этой неделе. И нельзя же от меня ждать, что я удержусь и не позабавлюсь с твоим парнем. Опять же – сарай. Прости, но я не могу ответить тебе такой же сильной любовью. Не могу сегодня прийти на работу. Не могу сдержать обещание быть верной. Не могу выйти из запоя в этом месяце. Это все тот чертов сарай, разве вы не понимаете?
А знаете что? Пусть сарай сходит нахуй хотя бы разок, хорошо? Может, я просто родилась неповоротливой, вот и все. Итак, йога. Наконец-то йога. Вы только посмотрите на меня – беру инициативу в свои руки, вся такая, елки-палки, активная.
Но, с другой стороны…
В моем случае всегда есть какое-то «но». На самом ли деле это была моя идея? Не могло ли выйти так, что мне ее подкинули, а я приписала ее себе?
«Йога для чайников, версия для неуклюжих». Неужели мои преследователи не могут дать мне свободу хотя бы в этом?
Курсы йоги похожи на любое место, куда ты возвращаешься раз за разом. Проведя некоторое количество занятий за изображением собаки мордой вниз, крокодилированием и недобрыми мыслями о собственных мышцах, перестаешь зацикливаться на себе и начинаешь замечать постоянных посетителей. Замечаешь одни и те же несчастные лица. Кого-то ты игнорируешь, и вы оба знаете, что так будет всегда, и это нормально.
А вот другие… Что заставляет тебя снова и снова поглядывать на них? Что заставляет тебя думать: хм-м, кажется, я хочу с ней познакомиться? Что убеждает тебя, будто нормально встретиться с ней взглядом, побуждает улыбнуться, зная, что это не будет истолковано превратно и что никто ни к кому не клеится? Этакое «намасте» – страдающая дура на моем коврике приветствует страдающую дуру на твоем.
Затем вы перекидываетесь парой слов после занятия, после чего, наконец, из твоего рта вылетает нечто такое, чего ты не ожидала произнести вслух никогда в жизни: «Может, выпьем по чашечке масалы?»
Кто вообще так разговаривает? Видимо, люди, занимающиеся йогой. Такие, какими я их представляю, – пусть даже после этих слов я почувствовала себя маньячкой-аутисткой, которая пытается сойти за свою, повторяя фразы, услышанные в чужих разговорах.
Вот как мы познакомились с Бьянкой. Я не могла объяснить, почему меня так к ней тянет – с такой силой, что даже неловко; в детстве меня за подобное задразнили бы друзья: «Тили-тили-тесто, Дафна с Бьянкой вместе чаи распивают, РАЗ-ГО-ВА-РИ-ВА-ЮТ». Поддайся желанию хоть раз, решила я, – а Бьянка уже сидела в кафе, как будто наша нарождающаяся болтовня была самой естественной вещью в мире.
Между первыми глотками мы жаловались друг другу на то, каково быть неповоротливыми девицами в гибком мире Барби-йогинь, а уже через пять минут я знала все об аварии, в которую Бьянка попала, когда ей было восемнадцать. О себе я не распространялась. С такой штуки, как сарай, знакомство не начинают.
Намного легче было признаться ей, что я всегда хотела выглядеть как она. Те несколько попыток покрасить волосы в черный? Ни разу их результат и близко не был похож на то, что от природы ниспадало с головы Бьянки. Ее кожа, этот светлый, сливочно-коричневый оттенок? Хочу. А от зависти к чужим сиськам я к тому времени уже почти избавилась, о да, но было время…
Бьянке хватило такта, чтобы отшутиться и ответить мне тем же – сказать, что это меня генетика одарила всем, что она, взрослея, держала за идеал. Блондинка? Да. Глаза голубые? Да. Худая? Да. Высокая? Ну, это же все относительно, верно?
– Мы всегда хотим того, чего у нас нет, – сказала она мне. – Готова поспорить, ты ни разу в жизни, молясь, не говорила: «Спасибо тебе, Господи, что сделал меня валькирией».
Боже, эта женщина умеет льстить.
И, наверное, хорошо, что я унялась тогда, когда унялась, не сообщив в подробностях о том, как сильно мне понравились ее бедра, ее широкие, мягкие бедра, потому что ни одной женщине не положено мечтать о бедрах побольше. Но Бьянка казалась сильной, вот в чем было дело. Мне нравилось, насколько сильной она выглядит – словно женщина с картины Фрэнка Фразетты в одном из артбуков Аттилы. Так, будто с помощью своих рельефных, похожих на лошадиные, ляжек она могла бы пинком отправить Уэйда Шейверса в полет сквозь стену.
И все же, при всех наших различиях, в ней чувствовалось нечто столь знакомое, что я знала – если не пущусь за этим в погоню, буду потом жалеть всю жизнь. Опять же – что заставляет тебя уставиться на человека на тротуаре или на другой стороне людной комнаты и подумать: «Вот он. Вот этот человек. Этот незнакомец, так непохожий на всех остальных, кажется чем-то большим».
Кто-то назвал бы это феромонами. Кто-то – влечением. Слиянием флюидов.
Я в данном случае назвала бы это ебаной жуткой манипулятивной судьбой.
К тому времени, как остаток масалы остыл на дне наших чашек, я начала понимать, в чем тут дело.
– Ты мне кое-кого напоминаешь, – призналась я Бьянке. – Кое-кого из очень далекого прошлого. Ты первая, кто мне о нем напомнил.
Бьянка выглядела так, словно не знала, быть ей польщенной или насторожиться, но готова была предоставить мне кредит доверия. Должно быть, она думала, что речь идет об учителе, старом друге или любимом кузене, с которым я давно не общалась. «Кого?» – спросила она.
– Его звали Броди. Броди Бакстер.
Называть его имя было рискованно. Все мы, дети сарая, долго мелькали в национальных новостях, хотя мое имя в те недели буйства прессы не называлось, потому что: а) ребенок, б) выжившая и в) никто на таком раннем этапе не мог быть уверен, что у Уэйда Шейверса нет больного подражателя, готового выползти из-под какой-нибудь поленницы, чтобы меня добить.