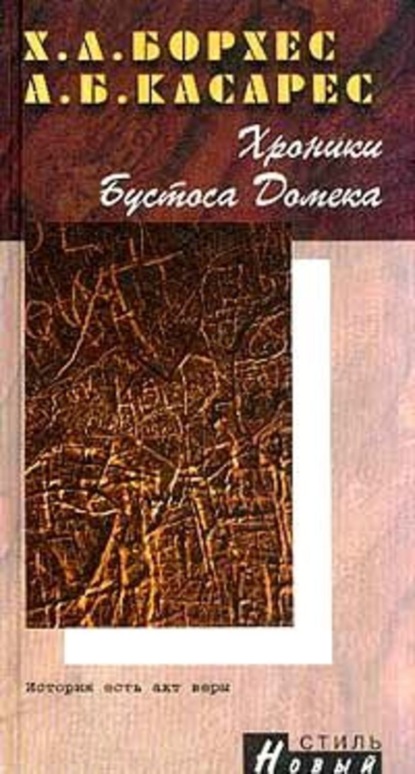
Полная версия:
Хроники Бустоса Домека
– В моем произведении путаницы быть не может, – заявил он с вполне оправданной торжественностью. – Ссылки на пенал и на ластик – более чем достаточное свидетельство. Для читателя вроде вас излишне описывать детали последующих экспозиций. Достаточно сказать, что я зажмуривал глаза, слабоумный парень клал какую-то вещь или вещи, а затем – за работу! Теоретически моя книга бесконечна, практически же я требую своего права на отдых – назовите его привалом в пути – после завершения девятьсот сорок первой страницы пятого тома [27]. Впрочем, описательство распространяется. В Бельгии празднуют появление первого выпуска «Водолея», труда, в котором я подметил немало ересей. Также в Бирме, Бразилии, Бурсако возникают новые активные кружки.
Тут я почувствовал, что интервью подходит к концу. Чтобы подготовить свой уход, я сказал:
– Прежде чем я уйду, досточтимый мэтр,
хочу попросить вас о последнем одолжении. Не могу ли я взглянуть на предметы, описанные в вашем последнем труде?
– Нет, – сказал Бонавена. – Вы их не увидите. Каждая экспозиция, прежде чем ее заменяли следующей, тщательно фотографировалась. Я получил великолепную серию негативов. Их уничтожение двадцать шестого октября тысяча девятьсот тридцать четвертого года причинило мне подлинную боль. Еще больней было мне уничтожить сами предметы. Я был убит.
– Как? – едва сумел я пролепетать. – Вы решили уничтожить черную шпильку из серии «игрек» и рукоятку молотка из «гаммы»?
Бонавена печально посмотрел на меня.
– Эта жертва была необходима, – пояснил он. – Произведение мое, как повзрослевший сын, должно жить самостоятельно. Сохранять оригиналы означало бы подвергать их опасности дерзких сравнений. Критики поддались бы искушению судить о большей или меньшей точности моего произведения. Так мы впали бы в глубокое наукообразие. А вы, конечно, понимаете, что я отвергаю всякую научную ценность моего труда.
Я поспешил его утешить:
– Ну конечно, конечно. «Северо-северо-запад» – творение эстетическое…
– Опять же ошибаетесь, – изрек Бонавена. – Я отрицаю всякое эстетическое значение моего произведения. Оно, так сказать, занимает свое особое место. Пробуждаемые им чувства, слезы, восхваления, гримасы для меня безразличны. Я не ставлю своей целью поучать, волновать или развлекать. Мое произведение выше этого. Оно претендует на самое скромное и самое высокое: на место во вселенной.
Его массивная голова, глубоко опущенная между плечами, не двигалась. Глаза уже не видели меня. Я понял, что визит закончен, и тихо вышел. The rest is silence [28].
В поисках абсолюта
Как это ни прискорбно, мы вынуждены признать, что взоры жителей нашего края прикованы к Европе и мы презираем или же не знаем подлинные местные достопримечательности. Случай Ниренстейна Суза [29] не оставляет в том никаких сомнений. Фернандес Сальданья [30] не включил его имя в «Уругвайский биографический словарь»; сам Монтейро Новато ограничился упоминанием дат 1879 – 1935 и названиями наиболее известных его сочинений: «Паническая равнина» (1879), «Топазовые вечера» (1908), «Oeuvres et thйories chez Stuart Merrill» [31] (1912), солидная монография, удостоившаяся похвалы нескольких адъюнкт-профессоров Колумбийского университета, «Символика в „Поисках абсолюта" Бальзака» (1914) и амбициозный исторический роман «Феод рода Гоменсоро» (1919), забракованный автором in articulo mortis [32]. Напрасно стали бы мы искать в лаконических ссылках Новато упоминание о франко-бельгийских литературных кружках в Париже конца века, которые посещал Ниренстейн Суза, пусть в качестве молчаливого зрителя, или о посмертном сборнике «Bric-а-Brac» [33], опубликованном в 1942 году группой друзей во главе с О. Б. Д. Не найдем мы также и признаков намерения воскресить удачные, хотя и не всегда точные, переводы из Катюля Мендеса, Эфраима Микаэля, Франца Верфеля и Гумберта Вольфа [34].
Как видим, его культурный диапазон был обширен. Родной идиш открыл ему двери в тевтонскую литературу; пресвитер Планес бесслезно приобщил его к латыни; французский язык он впитал вместе с европейской культурой; английский же был унаследован от дяди, управляющего солильней Юнга в Мерседесе [35]. Слегка разбирался он в голландском и понимал приграничный жаргон.
Когда второе издание «Феода рода Гоменсоро» было уже в типографии, Ниренстейн удалился в Фрай-Бентос, где, сняв у семьи Медейро просторный флигель родового дома, мог полностью посвятить себя тщательной работе над капитальным произведением, рукопись которого затерялась и даже название осталось неизвестным. Там знойным летом 1935 года ножницы Атропоса прервали усердный труд и полумонашескую жизнь поэта.
Через шесть лет директор «Ультима Ора», человек, чья живая любознательность не исключала интереса к явлениям литературы, надумал дать мне поручение, детективное и человеческое одновременно, поискать in situ [36]остатки этого капитального творения. Кассир газеты, после некоторого естественного колебания, субсидировал мне расходы путешествия по реке Уругвай, этой «нити жемчужной». Во Фрай-Бентосе должно было мне помочь гостеприимство доктора Живаго, друга-фармацевта. Эта экскурсия, мой первый выезд за границу, внушала мне – к чему умалчивать? – понятную тревогу. Изучение карты обоих полушарий поддерживало мое беспокойство, хотя заверения одного из пассажиров, что жители Уругвая владеют нашим языком, в конце концов почти рассеяло его.
Сошел я с парохода на землю братской страны 29 декабря, а 30-го утром в компании Живаго в отеле «Капурро» отведал свою первую чашку уругвайского кофе с молоком. В нашу беседу вскоре вмешался местный писарь и – слово за слово – рассказал нам хорошо известную среди шутников нашей любимой улицы Коррьентес байку о бродячем торговце и овце. Затем мы вышли на уличный солнцепек, никакого транспортного средства не понадобилось, и через полчаса, хваля заметный прогресс города, мы пришли в обитель поэта.
Владелец дома, дон Никасио Медейро после стаканчика вишневой наливки и нескольких кусочков сыра поведал нам всегда имеющую успех забавную историю о старой деве и попугае. Он нас уверил, что, хотя флигель, слава Богу, был отремонтирован каменщиком-халтурщиком, библиотека покойного Ниренстейна осталась нетронутой – не хватило средств для проведения дальнейших работ. Действительно, на сосновых стеллажах мы увидели плотные ряды книг, на письменном столе – чернильницу со склоненным над ней задумавшимся Бальзаком, а на стенах – портреты родных и фото с автографом Джорджа Мура [37]. Я надел очки и подверг беспристрастному осмотру запылившиеся томики. Как можно было предвидеть, там виднелись желтые корешки когда-то модного «Меркюр де Франс», лучшие образцы символистской продукции конца века, а также разрозненные томики «Тысячи и одной ночи» Бертона, «Гептамерон» королевы Маргариты, «Декамерон», «Граф Луканор» [38], «Книга о Калиле и Димне» и сказки братьев Гримм. Не укрылись от моего внимательного взгляда и «Басни» Эзопа с собственноручными пометками Ниренстейна.
Медейро дал согласие на то, чтобы я исследовал ящики письменного стола. На это я потратил два дня. О скопированных мной рукописях много говорить не стану – издательство «Пробега» вскоре предложит их широкой публике. Сельская идиллия Лакомки и Полишинеля, приключения Серой Мухи и огорчения доктора Окса, искавшего философский камень, уже необратимо включены в самый что ни на есть прочный corpus нашей литературы, хотя иной Аристарх и осудил изощренность стиля и избыток акростихов и отступлений. Эти исконно краткие вещицы, несмотря на их достоинства признанные самой придирчивой критикой журнала «Марча», не могли быть тем magnum opus, который искало наше любопытство.
На последней странице не помню уж какой книги Малларме я наткнулся на следующую запись Ниренстейна Сузы: «Любопытно, что Малларме, столь стремившийся к абсолюту, искал его в самом ненадежном и изменчивом – в словах. Ведь всем известно, что их дополнительные значения меняются и что самое высокое слово завтра может звучать тривиально или двусмысленно».
Мне удалось также обнаружить три последовательных варианта одного александрийского стиха. В своем черновике Ниренстейн написал:
«Жить для воспоминанья, все потом забыть».
В «Ветрах Фрай-Бентоса» – также неопубликованном стихотворении – он предпочел:
«Все копит Память наша для реки Забвенья».
Окончательный же текст, появившийся в «Антологии шести латиноамериканских поэтов», звучит так:
«Хлам всякий Память глупо для Забвенья копит».
Другой примечательный пример – одиннадцатисложный стих:
«Живем мы только в том, что потеряли», в печатном виде ставший:
«Наш рок – быть инкрустацией в потоке».
Даже рассеянный читатель заметит, что в обоих случаях опубликованный текст менее эффектен, чем черновые варианты. Эта проблема меня заинтриговала, но прошло еще некоторое время, пока я додумался до сути дела.
Возвращался я домой разочарованный. Что скажет начальство в «Ультима Ора», финансировавшее мою поездку? Не слишком способствовало бодрости моего духа и назойливое общество некоего NN из Фрай-Бентоса, соседа моего по каюте, беспрерывно рассказывавшего всякие истории и анекдоты, довольно рискованные, даже неприличные. Мне хотелось думать о загадке творчества Ниренстейна, но этот неутомимый causeur [39]не давал мне ни малейшей передышки. Лишь к утру я спасся тем, что стал клевать носом – от скуки, дремоты и укачивания.
Реакционные хулители современной теории подсознания откажутся поверить, что решение загадки я нашел на ступенях таможни Южного порта. Выразив NN восхищение его поразительной памятью, я вдруг почему-то спросил:
– Откуда вы знаете столько историй, дружище?
Ответ подтвердил мое внезапное подозрение. NN ответил, что все, или почти все, истории ему рассказал Ниренстейн, а остальные – Никасио Медейро, обычный собеседник покойного. Еще он прибавил, мол, Ниренстейн их рассказывал очень плохо, и окрестный люд их улучшал. Так, внезапно, все прояснилось: стремление поэта к созданию абсолютной литературы, его скептическое замечание о преходящем смысле слов, прогрессивное ухудшение собственных стихов от одного варианта к другому и двойственный характер библиотеки – от изысков символизма до сборников чисто повествовательного жанра. Не будем удивляться такому духовному пути: Ниренстейн подхватил традицию, суть которой, начиная с Гомера до крестьянской кухни и клуба, в том, чтобы развлекать, придумывая и слушая всяческие истории. Свои истории он рассказывал кое-как, ибо знал, что, если они чего-то стоят, их отшлифует Время, как сделало оно с «Одиссеей» и «Тысяча и одной ночью». Подобно литературе в ее истоках, Ниренстейн ограничил себя устным жанром, не сомневаясь, что с годами в конце концов все будет написано как должно.
Нынешний натурализм
Не без облегчения мы убеждаемся, что полемика на тему «списывание – описательство» [40] уже не занимает первое место в литературных приложениях и прочих брошюрах. После беспристрастных лекций Сиприано Кросса (из ордена иезуитов) никто уже не вправе ссылаться на незнание того, что первый из упомянутых терминов наиболее естественно применяется к беллетристике, тогда как второму отведено место во всех прочих сферах, разумеется не исключающих поэзию, пластические искусства и критику. Тем не менее путаница продолжается, и время от времени, к возмущению поборников истины, имя Бонавены объединяют с именем Урбаса. И возможно, желая отвлечь нас от этой нелепицы, кое-кто называет еще другую смехотворную пару: Иларио Ламбкин – Сесар Паладион. Допускаем, что подобная путаница основана на некоторых внешних параллелях и терминологических аналогиях, однако для взыскательного читателя страница Бонавены всегда останется страницей… Бонавены, а творение Урбаса… творением Урбаса. Некоторые люди пера, правда иностранцы, распустили лживый слух о существовании аргентинской описательской школы; мы же, опираясь лишь на сведения, полученные в обстоятельных беседах со светилами этой мнимой школы, беремся утверждать, что речь идет не об оформленном движении или хотя бы об определенном кружке, а об индивидуальных, но совпадающих новациях. Впрочем, перейдем к сути дела. Когда мы знакомимся с увлекательным мирком описывателей, первое имя, предстающее перед нами, – это, как вы догадались, имя Ламбкина Форменто.
Судьба Иларио Ламбкина Форменто весьма любопытна. В редакции, куда он приносил свои писания, обычно очень краткие и для среднего читателя малоинтересные, его считали объективным критиком, то есть человеком, который в своей работе комментатора исключает всякую похвалу и всякое осуждение. Его «заметочки» нередко ограничивались описанием рисунка на обложке или на суперобложке рассматриваемой книги, а со временем обогатились сведениями о формате, о размерах в сантиметрах, о весе, шрифте, качестве краски и о запахе бумаги. С 1924 по 1929 год Ламбкин Форменто, не снискав ни лавров, ни шипов, давал материал для последних страниц «Анналов Буэнос-Айреса» [41]. В ноябре 1929 года он от этой работы отказался, чтобы полностью посвятить себя критическому изучению «Божественной комедии». Семь лет спустя его настигла смерть, когда он уже отдал в печать три тома, которые есть и будут пьедесталом его славы и называются «Ад», «Чистилище», «Рай». Ни публика, ни – еще менее того – его собратья по перу не поняли значения этих книг. Потребовался настоятельный призыв, подкрепленный инициалами О. Б. Д., чтобы Буэнос-Айрес, протирая заспанные глаза, пробудился от своего догматического сна.
Согласно гипотезе О. Б. Д., в высшей степени вероятной, Ламбкин Форменто однажды в киоске парка Чакабуко перелистывал «Путешествия благоразумных мужей» [42], эту белую ворону XVII века. В четвертой книге там говорится:
«…В той империи Искусство Картографии достигло такого Совершенства, что Карта одной-единственной Провинции занимала пространство Города, а Карта Империи – целую Провинцию. Со временем эти Гигантские Карты перестали удовлетворять, и Коллегия Картографов создала Карту Империи, имевшую размеры самой Империи и точно с нею совпадавшую. Последующие Поколения, менее приверженные Картографии, решили, что столь обширная Карта бесполезна, и безжалостно предоставили ее воздействию солнца и жестоких Зим. В Пустынях Востока еще сохранились кое-где Руины Карты, населенные Животными и Нищими, – другого следа Географических Наук не осталось во всей Стране».
С присущей ему прозорливостью Ламбкин однажды в кругу друзей заметил, что создание карты натуральных размеров сопряжено с большими трудностями, однако аналогичный метод вполне применим в других областях, например в критике. С той поры смыслом его жизни стало создание «карты» «Божественной комедии». Вначале он довольствовался публикацией небольших и неполных клише со схемами кругов Ада, башни Чистилища и концентрических небес, что украшают известное издание Дино Провенсаля. Однако природная его требовательность не могла этим удовлетвориться. Сама Дантова поэма от него ускользала. Из непродолжительного периода уныния его вывело второе озарение, за которым вскоре последовал период усердного и терпеливого труда. 23 февраля 1931 года он почувствовал, что описание поэмы лишь тогда достигнет совершенства, когда будет слово в слово совпадать с самой поэмой, как знаменитая карта точка в точку совпадала с Империей. По зрелом размышлении он убрал предисловие и примечания, имя и адрес издателя и отдал произведение Данте в печать. Так в нашей столице был создан первый памятник описательства!
Не увидишь – не поверишь: нашлись библиотечные крысы, которые приняли или притворились, что приняли, этот современный tour de force [43] критики за еще одно издание поэмы Алигъери и пользовались им как обычной книгой для чтения! Вот так воздаются ложные почести поэтическому вдохновению! Так недооценивается критика! Единодушное одобрение знатоков стало всеобщим, когда суровым указом Книжной палаты или, по мнению других, Аргентинской академии литературы было запрещено в пределах города Буэнос-Айреса подобное беспардонное отношение к величайшему экзегетическому труду нашего времени. Однако вред был нанесен немалый – как снежный ком, путаница разрастается, и появляются трактаты, авторы коих упорно отождествляют столь различные произведения, как аналитические книги Ламбкина и христианские эсхатологические творения флорентийца. Также находятся слепцы, прельщенные фата-морганой подобной системы калькирования и путающие творчество Ламбкина с разнообразнейшей печатной продукцией Паладиона.
Существенно отличается случай Урбаса. Сей юный поэт, ныне приобщающийся к славе, в сентябре 1938 года был никому не известен. Открытием его таланта мы обязаны литераторам авторитетного жюри, которое в том году судило на литературном конкурсе журнала «Некстати» [44]. Как известно, темой состязания была извечная классическая роза. Пришли в движение перья и карандаши, в глазах рябило от громких имен, вызывали восхищение трактаты по цветоводству, изложенные александрийским стихом, а то и в десимах или в куплетах-«клубочках» [45], но все это померкло перед находкой – поистине колумбовым яйцом – Урбаса, который просто-напросто с торжественным видом представил жюри… розу. Не раздалось ни одного голоса против – слова, эти искусственные порождения человека, не могли соперничать с живой, естественной дщерью Бога. Пятьсот тысяч песо немедленно увенчали бесспорный подвиг поэта.
Радиослушатель, телезритель и даже заядлый или случайный amateur [46] утренних газет и авторитетных пухлых медицинских ежегодников наверняка уже удивляются, что мы медлим привести случай Коломбреса. Мы, однако, позволим себе заметить, что громкой известностью этот эпизод, ставший любимчиком желтой прессы, обязан, возможно, не столько его подлинному значению, сколько успешному вмешательству медицины, точнее, скальпелю в золотых руках доктора Гастамбиде. Это событие живо в памяти, его не забыть. А дело было так. В ту пору (речь идет о 1941 годе) открылся Салон пластических искусств. Были заготовлены специальные премии за работы на темы Антарктиды или Патагонии. Не будем говорить об абстрактных или конкретных изображениях ледяных глыб в стилизованных формах, увенчавших лаврами чело Гопкинса, однако гвоздем выставки стало все патагонское. Коломбрес, до той поры приверженец самых крайних извращений итальянского неоидеализма, в том году представил хорошо сколоченный деревянный ящик, и, когда этот ящик был вскрыт авторитетным жюри, оттуда выскочил могучий баран, тут же нанесший удары в пах нескольким членам жюри и ранивший в спину живописца хижин Сесара Кирона, несмотря на дикарское проворство, проявленное им в бегстве.
Сей овен отнюдь не был фантастической фигурой, а оказался настоящим мериносом «рамбуйе» австралийской породы, не лишенным аргентинских рогов, оставивших след на соответствующих задетых им местах почтенных членов жюри. Подобно розе Урбаса, хотя в более впечатляющей и бурной форме, упомянутый шерстонос был не изысканной фантазией художника, а несомненным и упрямым биологическим экземпляром.
По какой-то причине, нам непонятной, пострадавшие члены жюри в полном составе отказались присудить Коломбресу премию, мечту о которой уже лелеяло его артистическое воображение. Больше справедливости и широты вкуса проявило жюри Сельскохозяйственной выставки, не побоявшееся объявить нашего барана чемпионом, и после этого инцидента он пользовался симпатией и любовью лучших людей Аргентины.
Обсуждаемая дилемма представляет немалый интерес. Если описательская тенденция будет развиваться, искусство окажется принесенным в жертву природе, но еще доктор Т. Браун [47] сказал, что природа – это искусство Бога.
Каталог и анализ разнообразных сочинений Лумиса
Касательно творчества Федерико Хуана Карлоса Лумиса уместно напомнить, что время легковесных шуток и бессодержательных побасенок отошло в прошлое. Теперь мы их не обнаружим ни в недолгой полемике Лумиса в 1909 году с Лугонесом, ни с корифеями раннего ультраизма [48]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Destiempo – Невпопад (исп.).
2
X. Л. Борхес. Из «Автобиографических заметок» (фрагмент). Печатается по изданию: X. Л. Борхес «Приближение к Альмутасиму». С.-Пб.: 000 Издательский дом „Кристалл", 2001.
3
«Любая мечта – пророчество: любая шутка становится чем-то серьезным в лоне Времени». Отец Киген (англ.). Отец Киген – персонаж пьесы Б. Шоу «Другой остров».
4
Состав (лат.).
5
Уничтожить (фр).
6
В туфлях (фр.). Здесь: по-домашнему.
7
Ласковая кличка О. Бустоса Домека в кругу близких. (Примеч. О. Бустоса Домека.)
8
Подобное выражение неверно. Освежите свою память, дон Монтенегро! Я ничего у Вас не просил. Вы сами явились, с присущей Вам бестактностью, в цех к наборщику. (Примеч. О. Бустоса Домека.)
9
После многословных объяснений доктора Монтенегро не стану настаивать и отказываюсь от телеграммы на этот предмет, сочиненной по моей просьбе доктором Баральтом. (Примеч. О. Бустоса Домека.)
10
Беллок Джозеф Хилари Пьер (1870 – 1953) – английский писатель, автор эссе, новелл, исторических, биографических и критических сочинений. Переводчик, к сожалению, не может взять на себя обязательство подобным же образом просветить читателя касательно всех встречающихся в «Хрониках» имен. Одна из черт своеобразной манеры Бустоса Домека, гротескное смешение имен личностей реальных и вымышленных, равно как названий реальных и вымышленных произведений, делает чересчур затруднительным – а возможно, и неуместным – такое комментирование. Поэтому читателю придется примириться с «точечными» примечаниями там, где они показались нам необходимыми. За помощь в комментировании благодарю Б. В. Дубина.
11
Невежда (лат.).
12
Забавная история (фр.).
13
Эррера-и-Рейссиг Хулио (1875-1910) – уругвайский поэт, его излюбленными темами были картины природы.
14
Удержитесь от смеха (лат.).
15
«Фабиола» – роман английского кардинала Уайзмена (1802 – 1865) о ранних христианах. «Георгики» – поэма Вергилия. Очоа-и-Акунья Анастасио (1783 – 1833) – мексиканский поэт, переводчик античной поэзии. «О дивинации» – трактат Цицерона.
16
Судя по одному случайному высказыванию, вполне его характеризующему, Паладион, кажется, избрал перевод Сио де Сан Мигеля. (Примеч. О. Бустоса Домека.)
17
Фаррель дю Боек – вымышленный автор, включенный Борхесом и Биоем Касаресом в их антологию «Книга ада и рая» (1960).
18
Центон (от лат. cento – одежда или покрывало, сшитое из лоскутов) – стихотворение, составленное из стихов одного или нескольких поэтов.
19
Абрамовиц Морис (1901 – 1981) – друг юности X. Л. Борхеса.
20
Лугонес Леопольда (1874 – 1938) – аргентинский прозаик и поэт, один из основоположников модернизма.
21
Литераторов (ит.).
22
«В последний час» – ежедневная буэнос-айресская газета (исп.).
23
С самого начала (лат.).
24
В свое удовольствие (ит.).
25
Запас (англ.), то есть (лат.).
26
Богом из машины (лат).
27
Всем известно, что шестой том вышел посмертно в 1939 году. (Примеч. О. Бустоса Домека.)
28
Дальше – тишина (англ.). Последняя реплика Гамлета.
29
Ниренстейн Суза – в этой двойной фамилии упоминание французского писателя и критика символистского направления Робера де Суза (1865 -?), вероятно, должно объяснить интерес героя очерка к французской литературе.

