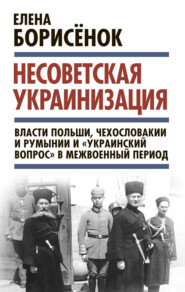 Полная версия
Полная версияНесоветская украинизация: власти Польши, Чехословакии и Румынии и «украинский вопрос» в межвоенный период
Во время обсуждения меморандума комиссией Бенеш напомнил, что Закарпатье – достаточно слаборазвитая территория, и в экономическом, и в культурном плане. Поэтому, перед тем как предоставить реальную широкую автономию, Прага планирует сначала поднять уровень развития Закарпатья и уравнять его с другими чешскими и словацкими регионами. Предложенный в Меморандуме план был одобрен на заседании Совета министров иностранных дел, причем по предложению члена комиссии Лансинга к нему было прибавлено положение, согласно которому служащие в Подкарпатской Руси должны назначаться по возможности из русинов[247]. 5 июля 1919 г. была завершена работа над проектом об отношении союзных государств Антанты к Чехословакии и месте в ней Подкарпатской Руси, а 6 августа его принял Совет глав великих держав. Наконец, 10 сентября 1919 г. был подписан Сен-Жерменский договор.
Чехословакия брала на себя обязательство образовать на русинской территорию автономную (самоуправляющуюся) единицу под названием Подкарпатская Русь, со своим автономным сеймом, обладающим законодательной властью в языковых, образовательных и религиозных вопросах и в вопросах местного самоуправления. Губернатор области должен был назначаться президентом ЧСР, но должен быть подотчетен русинскому сейму. Чиновники должны были быть по возможности из местного населения. Наконец, русины должны быть представлены в законодательном органе Чехословацкой Республики[248]. При этом по решению Парижской мирной конференции Пряшевщина административно включалась в состав Словакии, а 14 украинских сел Мармарощины присоединялись к Румынии.
После распада Австро-Венгрии и Российской империи часть их бывших территорий оказались под властью Румынии, в том числе и территории, где проживало восточнославянское население, – Бессарабия и Буковина.
К концу 1917 г. на территории Бессарабии действовали группировки, различающиеся по своим политическим и национальным пристрастиям. По инициативе группы молдавской интеллигенции 21 ноября (4 декабря) 1917 г. был создан краевой орган власти Сфатул Цэрий, который 2 (15) декабря 1917 г. принял решение о создании Молдавской Демократической Республики в составе Российской Федерации. Однако южные уезды края бойкотировали Сфатул Цэрий, не принимало участия в этом движении и население Хотинского уезда. Такое решение натолкнулось на сопротивление советских органов власти, формировавшихся в городах Бессарабии и опиравшихся на Фронтовой отдел Исполнительных комитетов советов Румфронта, черноморского флота и одесского округа (Румчерод). Борьбой советских и молдавских органов власти воспользовалась Румыния, начавшая в январе 1918 г. оккупацию края. Согласие на ввод румынских войск в Бессарабию дали посланники Антанты и США в Яссах[249].
При этом румынское руководство заручилось поддержкой части политиков из Сфатул Цэрия. 20 декабря 1917 г. Сфатул Цэрий, ссылаясь на беспорядок, возникший при отступлении с Румынского фронта русских частей, принял решение пригласить в Бессарабию румынские войска, несмотря на протесты крестьянской секции[250]. 24 января (6 февраля) 1918 г. Сфатул Цэрий принял декларацию о независимости Молдавской Республики.
Совнарком РСФСР расценил действия Румынии как военные действия против Российской Республики. Румынские войска встретили отпор со стороны революционизированных частей русской армии и Кишиневского совета, где большинство составляли большевики, однако уже 13 (26) января Кишинев был оккупирован. Сопротивление румынским войскам продолжалось в восточной и южной Бессарабии, не признававших Сфатул Цэрий. В середине февраля в Бессарабию направились части Красной армии, принимавшие до этого участие в борьбе против Центральной Рады. 5–9 марта 1918 г. было заключено соглашение между Советской Россией и Румынией, по которому последняя в двухмесячный срок обязывалась вывести войска из Бессарабии[251]. Однако после заключения прелиминарного мира с Центральными державами в Буфте (5 (18) марта 1918 г.) Румыния пропустила германские и австрийские войска на Украину и в левобережную Молдавию. Для обоснования своего положения в Бессарабии румынское правительство вновь использовало Сфатул Цэрий. 27 марта 1918 г. Сфатул Цэрий принял акт об объединении с Румынией на правах провинциальной автономии[252], чему немало способствовали репрессии румынских сил против политических лидеров, выступавших против присоединения Бессарабии к Румынии.
Украинская Народная Республика также проявляла интерес к Бессарабии, но сложное положение, в котором она оказалась в начале 1918 г., не позволило ей активно вмешаться в события. В III Универсале Центральной Рады Бессарабия не упоминалась, однако после заключения Брестского мира, 14 февраля 1918 г., на заседании Совета министров, во время обсуждения условий будущего мирного договора между УНР и РСФСР, было вынесено предложение: «Вопрос относительно Бессарабии решает Украинская Народная Республика на основании самоопределения наций, по согласованию с Румынией и Бессарабией, после вывода из территории последней войск Совета народных комиссаров»[253].
13 апреля 1918 г. УНР приняла «Заявление Румынскому правительству», в котором осуждалась аннексия Бессарабии Румынией, а также не признавалось решение Сфатул Цэрия о включении всего края в состав королевства. Кроме того, в заявлении звучал призыв к румынскому правительству пересмотреть бессарабский вопрос и дать возможность свободно самоопределиться «всему бессарабскому населению». В документе высказывалась надежда, «что Румынское правительство найдет в Бессарабском вопросе определенную почву для согласия, которое могло бы удовлетворить обе стороны». Заявление подписали Председатель Совета народных министров В. Голубович и министр иностранных дел М. Любинский[254].
Между тем в Париже 28 октября 1920 г. между Великобританией, Францией, Италией, Японией и Румынией, без участия России и Украины и без проведения плебисцита (референдума), был заключен договор о передаче Бессарабии в состав Румынии.
В Буковине борьба за власть шла между политическими представителями румын и украинцев и завершилась с вмешательством в нее королевской Румынии.
12 октября в Черновцах было созвано совещание четырех украинских партий – национально-демократической, народной, социал-демократической и радикальной. Было решено созвать расширенную конференцию, которая и состоялась на следующий день. Ссылаясь на право на самоопределение, конференция объявила о намерении «вместе со всеми украинцами Австро-Венгрии бороться за свою судьбу»: «Мы хотим в мире и согласии разойтись с нынешним и всегдашним нашим соседом румынским народом… Мы провозглашаем свое право на украинские области Буковины»[255].
После этого украинские представители отправились во Львов для того, чтобы принять участие в создании Украинской национальной рады. На совещании УНРады 19 октября было решено поделить ее на две секции – галицкую и буковинскую. Вернувшись в Черновцы, буковинские члены Национальной рады решили расширить свой состав и образовать Краевой комитет. Главой Краевого комитета был избран депутат сейма О. Попович[256].
Между тем определило свои позиции румынское сообщество Буковины. 6 октября в Яссах состоялось собрание румынских эмигрантов из Австро-Венгрии, и был создан «Комитет буковинских эмигрантов», выступивший за объединение Буковины и Трансильвании с Румынией.
В свою очередь, украинские лидеры продолжали настаивать на своем видении будущего переустройства Буковины. Различное видение будущего Буковины украинскими и румынскими лидерами привело к тому, что попытки переговоров между ними не привели к успеху. Депутат австрийского парламента Исопескул-Грукул признавал право украинцев только на 4 повета Буковины без Черновцов. Другой депутат А. Ончул отстаивал идею разделения края по этническому принципу, а Черновцы предлагал оставить под совместным контролем. Я. Флондор считал, что вся Буковина должна быть присоединена к Румынии. При этом Исопескул-Грукул, А. Ончул и ряд других румынских политиков отказалась принять участие в собрании 27 октября, которое проводили сторонники Флондора[257].
27 октября в Черновцах состоялось народное собрание буковинских румын, объявившее себя учредительным собранием (конституантой) и избравшее Румынский национальный совет Буковины. Собрание постановило: «объединить всю Буковину с остальными румынскими территориями в единое национальное независимое государство и добиваться этой цели в полной солидарности с румынами Трансильвании и Венгрии». При этом собрание высказалось против попыток разрушения целостности Буковины[258].
Украинцы приступили к решительным действиям. 3 ноября 1918 г. в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое провозгласило воссоединение Северной Буковины с Украиной. 5 ноября на совещании Краевого комитета было решено взять власть в Черновцах в свои руки[259].
На следующий день было опубликовано обращение Краевого комитета Украинской национальной рады к населению края. Как говорилось в документе, «старая власть пала и необходимо создать новый орган исполнения государственных функций. К сожалению, усилия украинцев этого края установить власть совместно и во взаимопонимании с представителями других наций не привели к успеху и потому создалось невероятное положение анархии…»[260]. Рада объявила о том, что принимает управление Черновцами и всеми поветами края, в которых украинское население составляет большинство, а в Черновцах берет «под свою защиту» все центральные учреждения. Об этом украинская делегация сообщила краевому президенту (губернатору) графу Й. фон Эцдорфу. Однако тот заявил, что он может передать власть украинцам только вместе с румынами[261]. Переговоры Эцдорфа с Я. Флондором не имели результатов: он не соглашался на раздел Буковины. Тогда губернатор принял решение передать власть над румынской частью Буковины А. Ончулу. В протоколе о передаче власти от украинской стороны подписи поставили О. Попович, М. Спинул, И. Семака, от румынской – А. Ончул. Было опубликовано заявление украинского и румынского национальных комиссаров Поповича и Ончула о взятии власти в Буковине. 7 ноября Попович и Ончул приняли присягу государственных чиновников на верность украинской и румынской власти[262]. Однако удержать власть ни Попович, ни Ончул не смогли.
Румынский национальный совет обратился к правительству Румынии с просьбой прислать военную помощь для поддержки порядка в Буковине. Инициатива перешла к правительству Румынии, принявшему решение об оккупации Буковины, чтобы прекратить анархию и защитить имущество граждан. Попытка Ончула, отправившегося в Яссы, добиться одобрения румынскими властями произошедших на Буковине перемен провалилась. Провалились и попытки Поповича организовать вооруженное сопротивление румынским войскам.
11 ноября Черновцы были заняты румынами, а вся полнота власти перешла к Румынскому национальному совету (РНС). 28 ноября 1918 г. объединительный съезд Румынского национального совета провел решение о безусловном «присоединении Буковины в ее старых границах до Черемоша, Колачина и Днестра к Королевству Румыния»[263]. Украинцы и евреи отказались принимать участие в работе съезда. В результате в составе РНС оказались 74 румына, 7 немцев, 6 поляков, и 13 лояльных к Румынии украинцев[264].
Правительство ЗУНР выразило протест против оккупации Буковины, совершенной вопреки принципу самоопределения народов[265]. Невзирая на это, 18 декабря 1918 г. в Париже было поддержано решение о присоединении Северной Буковины к Румынии. В этот же день румынское правительство издало декрет о воссоединении Буковины с Румынией, который 31 декабря был утвержден королем. 10 августа 1920 г. Севрский мирный договор окончательно зафиксировал вхождение всей Буковины в состав Румынии. Документы, подписанные Румынией в рамках Версальской мирной конференции (Договор между союзными силами и Румынией 9 декабря 1919 г. и Договор между Румынией и Великобританией, Францией, Италией, Японией 28 октября 1920 г.), предусматривали, чтобы румынская сторона защищала интересы национальных меньшинств, в том числе и этнических украинцев, которые очутились на ее территории в результате заключения этих соглашений[266].
§ 5. Образование СССР и объявление курса на украинизацию
После поражения Красной армии под Варшавой в августе 1920 г. и краха попыток «революционизировать» Польшу большевистское руководство перешло к практическим мерам по реализации планов создания союзного государства. Встал вопрос об оформлении отношений РСФСР с образовавшимися советскими республиками, ставший еще более актуальным в начале 1922 г. в связи с подготовкой к Генуэзской конференции. Народный комиссар по иностранным делам РСФСР Г. В. Чичерин 10 января написал секретарю ЦК РКП(б) В. М. Молотову письмо, в котором высказал свою точку зрения на состав советской делегации на будущей конференции. Он подчеркнул, что «в протоколе заседания комиссии по подготовке европейской конференции от 9 января выдвинут чрезвычайной важности вопрос о включении братских республик в РСФСР к моменту конференции»[267]. По его мнению, «момент достаточно благоприятен для проведения этой очень крупной меры без серьезных международных осложнений», и «на конференции следует поставить державы перед свершившимся фактом». «Если мы на конференции заключим договоры как девять параллельных государств, это положение дел будет юридически надолго закреплено, и из этой путаницы возникнут многочисленные затруднения для нас в наших сношениях с Западом»[268], – утверждал глава советской дипломатии.
Сталин, ставший к тому моменту генеральным секретарем партии и изучивший состояние работы и настроения периферийных парторганизаций, настаивал на необходимости немедленного изменения существующего порядка отношений «между центром и окраинами». Сталинский проект признавал «целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР открытым и ограничившись принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и прочее»[269]. Свои мысли по поводу объединения республик Сталин изложил Ленину в письме от 22 сентября 1922 года. Он оценивал сложившуюся ситуацию как «отсутствие всякого порядка и полный хаос», которые тормозят и парализуют «всякую хозяйственную деятельность в общероссийском масштабе». Сталин предлагал выбрать одно из двух: «либо действительная независимость и тогда – невмешательство центра», либо «действительное объединение Советских Республик в одно хозяйственное целое», т. е. «замена фиктивной независимости действительной внутренней автономией республик в смысле языка, культуры, юстиции, вну[тренних] дел, земледелия и прочее»[270]. При этом действовать надо было, как говорилось в письме, быстро: если сейчас «речь идет о том, как бы не „обидеть“ националов; через год, вероятно, речь пойдет о том, как бы не вызвать раскол в партии на этой почве»[271]. Причиной такой спешки было не только удобство администрирования, но и партийно-политические соображения. Сталин указывал на существование среди коммунистов большого числа «социал-независимцев», упорно признававших «слова о независимости за чистую монету» и недовольных централизаторской политикой ЦК партии, объясняя их появление необходимостью «демонстрировать» в период гражданской войны «либерализм Москвы в национальном вопросе»[272].
Сталин настаивал на форсированных сроках образования СССР, указывая, что «через год будет несравненно труднее отстоять фактическое единство советских республик». Хотя единая партийная система виделась большевикам мощной объединительной силой, Сталин, по-видимому, опасался раскола партии на национальной почве, тем более что в официальных документах по отношению к советским республикам постоянно фигурировали определения «независимый» и «суверенный». Это давало основания республиканским руководителям требовать выполнения декларированных принципов[273].
26 сентября 1922 г. состоялась беседа Ленина со Сталиным по вопросу об объединении советских республик. В тот же день Ленин написал письмо членам Политбюро ЦК РКП(б), в котором высказался против идеи Сталина об «автономизации» самостоятельных национальных республик и предложил создать СССР. «По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться»[274], – писал Ленин. По настоянию Ленина были внесены уточнения в пункты резолюции. Теперь речь шла не о вступлении в РСФСР, а об объединении в СССР советских республик. «Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, „Союз Советских республик Европы и Азии“»[275], – настаивал Ленин. Для него было важным, «чтобы мы не давали пищи „независимцам“, не уничтожали их независимости, а создавали еще новый этаж, федерацию равноправных республик»[276]. Соответствующие изменения Ленин предлагал внести и в другие пункты предлагаемой Сталиным резолюции. Так, он считал необходимым создание общефедерального ВЦИКа Союза Советских Республик, а наркоматы продовольствия труда и народного хозяйства не формально подчинить директивам соответствующих наркоматов РСФСР, как предлагал Сталин, а слить их по соглашению ВЦИКов[277].
Настаивая на корректировке сталинской резолюции, Ленин руководствовался идеей мировой революции. В первые годы после завоевания власти большевики много говорили о «прямом штурме» бастионов капитализма. По воспоминаниям А. А. Андреева, тогда секретаря ВЦСПС, «Владимир Ильич любил иногда до начала заседания Центрального комитета в кругу собравшихся членов ЦК вслух помечтать с большой уверенностью и надеждой о направлении исторического развития и конечной победе социалистической революции». Ленин подходил с карандашом в руке к карте мира и, указывая на колониальные страны, говорил: «Вот где заключена величайшая сила социализма – в его решающей борьбе с капитализмом; здесь будет нанесено еще одно смертельное поражение империализму»[278].
В сталинском плане Ленин видел препятствие на пути объединения пролетариев всех стран в единую семью. С наступлением мировой революции федеральное устройство государства сделает возможным присоединение к этому союзу новых республик[279]. Большевики всерьез рассчитывали на скорую революцию в Германии. Но вступить та сможет лишь в союз советских республик Европы и Азии, а отнюдь не в РСФСР.
Ленинский проект «федерализации» одержал победу, однако влияние Сталина на процесс государственного строительства в национальной области было неизменным и весьма значительным. Как и предлагал генсек, самостоятельный статус был оставлен лишь за некоторыми наркоматами (юстиции, внутренних дел, земледелия, просвещения, охраны здоровья и соцобеспечения). Без сомнения, Сталин не оставил попыток претворить в жизнь свою идею о замене «фиктивной независимости» на «внутреннюю автономию республик», пытаясь таким образом возместить ограничение самостоятельности «независимых республик».
В данном случае Сталин действовал как практический политик, ставя во главу угла удобство администрирования и крепость создаваемого образования. Взгляды Ленина же явились выражением широко распространенной в этот период веры в грядущую – причем почти незамедлительно – мировую революцию. Действительно, революции в Германии в ноябре 1918 г., в Венгрии в марте 1919 г. давали на это, казалось бы, все основания. Правда, поведение польских рабочих и крестьян в 1920 г. не укладывалось в готовую схему, но к 1923 г. в Германии интенсивно готовилась новая революция.
В данной ситуации становится понятным не только принцип создания СССР, но и лозунги большевистской национальной политики, призванные революционизировать пролетарские массы соседних (и не только соседних) государств. Сталин в своих работах подчеркивал значение внешнеполитического аспекта. Если в 1921 г. указывалось лишь на «коренное улучшение отношений Турции, Персии, Афганистана, Индии и прочих восточных окраин к России»[280], то двумя годами позже речь шла о необходимости «расшевелить, революционизировать» «восточные колониальные и полуколониальные страны», видящие в СССР «знамя освобождения»[281].
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов СССР был принят «Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик». Республикам полагалось иметь свои бюджеты, которые являлись бы составными частями общесоюзного бюджета, при этом перечень доходов и размеров доходных отчислений, идущих на образование бюджетов союзных республик, должен был определять ЦИК Союза[282]. Устанавливалось единое союзное гражданство, учреждались флаг, герб и государственная печать СССР, признавалось право свободного выхода союзных республик и необходимость внесения изменений в конституции республик в соответствии с договором.
После образования СССР встал вопрос о национальном облике советских республик. С одной стороны, внешнеполитическая угроза со стороны Польши еще далеко не отпала, и контакты польских спецслужб с украинской военной эмиграцией вызывали серьезную озабоченность в Москве[283]. С другой стороны, в интересах развития мировой революции стоило продемонстрировать внимательное и эффективное решение национального вопроса в СССР.
Утративший формально силу польско-украинский военно-политический союз продолжался еще не менее года. Несмотря на то что Рижский договор предусматривал отказ сторон от поддержки враждебных друг другу организаций на своей территории, из интернированных украинцев при содействии польских спецслужб были созданы отряды. Целью их было вторжение на Украину, чтобы поднять там восстание. Это и произошло в октябре-ноябре 1921 года. Хотя первоначальные планы польских спецслужб потерпели неудачу, лагеря для интернированных военнослужащих УНР просуществовали в Польше до 1924 года[284]. По данным польских государственных регистрационных органов, общая численность украинской эмиграции в конце 1920 г. составляла 43 тыс. человек[285]. При этом в Польше нашли пристанище и многие украинские политики. На границе не прекращались вооруженные инциденты с участием проникавших с территории Польши бандитских формирований. Между Москвой и Варшавой велась продолжительная дипломатическая переписка со взаимными обвинениями в нарушении условий договора[286].
Одновременно Варшава стремилась превратить временную оккупацию Восточной Галиции в официально признанное вхождение региона в состав II Речи Посполитой. 15 февраля 1923 г. Польша обратилась в Совет послов с данным вопросом, сославшись на соответствующую статью Версальского мирного договора, по которой США, Великобритания, Франция, Италия и Япония оговорили за собой право определить границу Польши на востоке[287]. Политический комитет Совета министров Польши в своем постановлении от 10 марта 1923 г. констатировал: «Польская республика никогда и ни под каким условием не откажется от своих полных суверенных прав на всю территорию б. Галиции, так как это было бы для нее равносильно лишению государства элементарных основ существования и обороноспособности»[288]. Дипломатические усилия Польши увенчались успехом, и 14 марта в Париже Совет послов стран Антанты признал за ней все права верховной власти над территориями, границы которых были определены Рижским мирным договором. Советская сторона пыталась протестовать. 13 марта (накануне принятия решения Советом послов) правительство УССР приняло ноту правительствам Франции, Великобритании и Италии, в которой решительно возражало против любого решения судьбы территорий, непосредственно граничащих с Украиной, без его участия. В ноте указывалось, что в Восточной Галиции «3/4 населения составляют украинцы», что ее оккупация польскими властями и войсками является актом насилия, и население «всеми средствами сопротивляется новому насилию над его правами и свободами»: «Отказ украинского населения принять участие в выборах, толпы украинцев и других галичан, перебегающих на территорию соседних с Польшей государств, чтобы не подвергнуться набору в польские войска, частичные восстания, охватившие целые районы Восточной Галиции, – все это свидетельствует о решительном протесте Восточной Галиции против аннексионистской политики Польши»[289].
Между тем оставалась довольно сложной и внутриполитическая ситуация в стране Советов. По оценке ГПУ, на Украине был активен политический бандитизм. «Переходящие на Украину и частью в Гомельскую и Брянскую губернии банды из Польши и Румынии терроризуют партработников и подготовляют восстание, предполагаемое на 1 июня или 10 июля, ко времени жатвы, – говорилось в обзоре политэкономического состояния СССР за апрель-май 1923 г. – На состоявшемся в Тарлове съезде представителей всех банд присутствовали: Петлюра, Тютюник, генерал Янченко, англичане и французы, причем последние обещают подвезти бандитам через Польшу 500 000 комплектов обмундирования, а англичане – амуницию и боеприпасы»[290]. Особенно активно банды действовали в Волынской, Подольской, Киевской, Екатеринославской, Харьковской и Полтавской губерниях. Всего же на Украине весной 1923 г., как говорилось в отчетах ГПУ, было 57 банд[291].



