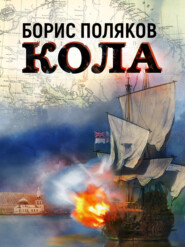скачать книгу бесплатно
– Плясал он с тобой? – допытывалась бабуся.
Нюшка, проголодавшаяся, уплетала пирог.
– А то как же? С кем ему еще плясать?
Подперев щеку рукой, бабуся устроилась против Нюшки.
– Гордячка. И чего гордишься? Иль в Коле девки повывелись?
– Повывелись, – Нюшка с полным ртом смеялась. – Из породистых, после тебя, только я одна. Больше нету.
Бабуся качала головой, посмеивалась:
– Ох, хвастуша! – Подзадоривала: – У Парамоновых Гранька как есть заткнет тебя за пояс…
– Гранька?! – залилась смехом Нюшка. – Куда ей? Давеча, смотрю, пришла в материнском кокошнике. Свой вышить умения нет. А у меня, смотри, – встала, прошлась, показывая передник. – Кто лучше меня стеклярусом расшить может? А споет? А спляшет? На Граньку парни-то и не глядят вовсе…
– Только на тебя?
Нюшка уперла в бока руки, вскинула голову:
– На меня!
Лицо бабуси все в морщинах, доброе, а сама подстрекает, выведывает. Не терпится ей знать сердечные дела Нюшкины.
– Однако весной как уехал он не простясь, посохла ты…
Глаза Нюшкины сузились в долгом взгляде. Усмехнулась уголком губ, пропела тихонько, с веселой угрозой в голосе:
Меня высушил милой – суше травки полевой,
Я повысушу его – суше сена летнего.
– Ух, греховница! – осерчала бабуся. – Нешто поют в ночи? – перекрестила Нюшку. – Иди, спи. Приберу я со стола-то…
27
Нюшка из сенцев поднималась по лестнице в свою светелку, загородив плошку ладонью.
О Граньке бабуся не зря помянула. Насторожить хочет. Дома сидит, а слухом пользуется. На вечёрке и Нюшка узнала: Гранька с матерью целый день провели в доме Герасимовых. И баню топили, и стол готовили. Гранька – не соперница! Но пересуды велись в присутствии Нюшки, были ей неприятны. Девки будто с ума посходили: «Кир, Кир!» А Кир на вечёрку долго не появлялся, Граньки тоже не было. Все это раздражало Нюшку: думай тут, гадай.
В светелке у Нюшки чисто, уютно, тихо. Внизу протоплена печь, и от стенки с трубой исходит тепло, сухое, мягкое.
На вечёрку Кир зашел только, Нюшка сразу увидела: глазами ее ищет. Но обиды не могла простить. Весной умчался – слова не сказал. Теперь назначил вечёрку, а пришел последний. Подумаешь, герой! Жди его. Шиш вот! И хоть к первой к ней подошел с приглашением, решила наказать его, покуражиться.
Нюшка достала свечу, установила, зажгла, подумала, подрезала фитиль, загадала – в какую сторону наклонится. Вспоминая Кира, прыснула смехом. А испужался-то как! Глаза молящие, покорные. Сам так и стелется. Погоди, то ли будет! Это тебе за лето.
Летом на покосе по Туломе-реке раздолье. В обед, когда, бывает, постоят жаркие дни, девки и бабы купаться – табуном. После плели венки, пели песни, судачили об осенних свадьбах, сплетничали. Откуда-то прикатился слух: женится осенью Кир на купеческой дочке, архангельской.
Девки, заводя разговор в присутствии Нюшки, обряжали молву подробностями: собирается-де старый Герасимов в Архангельск, к будущей родне на смотрины. Нюшка, слушая разговоры, смеялась, задрав голову, звонко, раскатисто. Подружки терялись в догадках: иль вправду все одно ей?
В Коле Герасимов при встречах светлел лицом, здоровался с Нюшкой приветливо, делился заботами о пропавшем Кире. Нюшка проведала без труда: в Архангельск Герасимов не собирался. Но досада на Кира не проходила. Мог бы хоть отцу послать весточку.
Нюшка сняла с себя передник, разглядывая шитье, хмыкнула тоненько: девки на вечёрке глаз с передника не сводили – зависть! Разложила на столе передник, отошла, любуясь, напевала любимую с лета частушку:
Всё еще изменится, погода переменится.
Всё равно он будет мой, никуда не денется.
Закусив губу, ходила по светелке в раздумье, не зная, на что решиться, и как была – в одежде – бросилась навзничь на кровать, смотрела на свечку. Горит ровно, медленно. Фитиль прямо. Пока наклонится, долго ждать. Тихо в комнате. За окном гудит, хлещется ветер, рвет на крыше флюгарку. Нюшка представила, как холодно в темноте, под дождем. Вспомнила, как на вечёрке простилась с Киром, молча, одними глазами. Подумала, что все равно это должно случиться. Потянулась истомой. Тело ленивое. Пусть Кир думает – соблазнил ее. Флюгарка на крыше металась, стрекотала, плакалась. Нюшка усмехнулась: холодище там. Встала порывисто, спустилась вниз, в сенцы, зажгла фонарь. Постояла в раздумье и смятении, вскинув голову, пошла во двор, к задней воротине. Засов отодвинула сразу, решительно.
Ветер рванул, распахнул воротину: холодный, сырой, заметался, гася фонарь, обтянул сарафаном ноги.
Из темноты в свет фонаря шагнул Кир. Мокрый, продрогший, смеясь глазами, протянул узелок, сказал:
– Я подарки тебе принес, Нюша…
28
Далеко за полночь провожал своих гостей Шешелов. Он был доволен, что ближе узнал их. Да, он обещает: о разговоре никто знать не будет. Да, кое-какие меры они примут совместно. У него, Шешелова, есть кому написать в Петербург. Он спросит, он узнает, как получилось, что Россия потеряла землю. Уж если идти к царю, нужно знать больше.
Странные чувства испытывал Шешелов после ухода колян. Ему было стыдно за себя. Боже, какой он сидел важный, надутый в своем новом мундире! Он считал себя более образованным, он был городничим. Ему преподали хороший урок. Оказалось, он ничего не знает.
Старики ушли. Он с наслаждением закурил трубку, поудобней уселся в кресло, вытянул ноги. Спать не хотелось.
В памяти еще стоял разговор с колянами. Как получилось, что он стал доверительным? Да, он, Шешелов, нашел верный тон и рад этому. Такие люди!
Они пили чай и говорили, о чем болела душа, что много лет таилось под спудом.
«Отданное Галяминым – наше, русское, прадедами отвоеванное и обжитое, их кровью политое». Уже давно ничто так его не захватывало. Шешелов слушал с жадным интересом, и это еще больше располагало их к откровенности. «На той стороне народ крещеный остался. И сколько бы ни порол исправник – шепчутся прихожане недовольно, таят в сердцах обиду кровную и сомнения. Нечистое дело тут покрывается. Дети взрослые стали, спрашивают. А как объяснишь, что есть правда, о которой молчать велено?!»
Шешелов рассматривал колян. Судьбы и характеры разные, а боль и досада одинаковы. Что их объединяет? Интересы земли?
«Чтоб правда о сем не умерла с нами, добьемся к помазаннику, упадем в ноги. Мы из живых свидетелей последние». «И старые, чтоб наказания бояться».
И он слушает, он разделяет их чувства. Нельзя бесконечно молчать про это, нельзя. Добиться аудиенции – придумано хорошо.
И он загорелся: он должен помочь им. Он напишет кому следует, выяснит и узнает. Он научит их действовать. Он здесь городничий. Это его касается.
Трубка погасла, набивать ее вновь не хотелось. Он устал, пора отдыхать. Завтра он напишет письма. Он узнает, что случилось с границей и почему исправник заставляет молчать обо всем этом. Кому-то, выходит, нужно, чтоб молчали. А вдруг – государю?
И снова Шешелов потянулся к трубке. Не поторопился ли он с обещаниями? Не слишком ли поддался настроению? Стоит ли ему вмешиваться? Он хотя и городничий, однако сослан. Репутация его подмочена. Когда находишься на краю земли, нельзя рваться вперед с завязанными глазами. А он оказался именно на краю земли. Разве мало ему прошлых уроков?
Когда здесь были коляне, он разделял их убеждения. Вздор! Всякая убежденность покоряет. Он был покорен.
Они симпатичны ему знаниями, которых он не имеет, убежденностью. Но он должен быть разборчив и осторожен. Вмешиваться в случай с границей – вставать на чьем-то пути. Господи, как все похоже! Опять слова о гражданском долге, о пользе народа, земли русской.
Опять столкновение с властью. Что это даст? Ночи без сна, страх ожидания, допросы…
К черту долги, слова, теории! Он хочет покоя! У него есть книги, есть коллекция. Они заменяют ему и политику, и светские развлечения, и друзей. Он не хочет слышать о политике.
Горячиться, однако, не следует. Он должен обдумать все здраво, трезво. Конечно, потерянная земля для колян – реальность. И хотелось себя ругнуть: испугался, потому что почуял опасность? Как и тогда? Недовольно поворочался в кресле. Это «тогда» он не любил помнить. Думал: перед собой он прав. Тогда он увидел опасность раньше других, отошел и тем спасся. Не такие ломались. Изменил своим убеждениям Достоевский – ум! А он маленький человек.
Шешелов давно придумал себе это оправдание и находил в нем утешение. А Петрашевский не сдался, до сих пор не сдался…
В огромных часах шевельнулись пружины и певуче пробили три раза. Встревоженные, улеглись ворчливо, и снова тишину нарушал только сонный шаг маятника. Печка остыла, и от окон полз холод. Заныли от давнего ревматизма ноги. Шешелов оглядел кабинет. Портреты царской фамилии на стенах. Огромный стол и тяжелый трехсвечник. Цветастые портьеры, новый мундир городничего. Выколотил потухшую трубку, вздохнул. Господи, какая глупая и ненужная бутафория! Граница, поморы, власть, страх. Он старый и больной человек. Захотелось пожаловаться кому-нибудь, рассказать откровенно, что жизнь прошла, что много лет рядом нет близкого человека, а одиночество так тоскливо. У него нет сил разбираться в случившемся. Он чувствует, что может поступить не так, как нужно. Ему захотелось в тепло кровати. Закрыться там с головой одеялом и все-все забыть.
И уже в постели вспомнил своих гостей еще раз. А с ними ему было хорошо. Давно на душе не было так спокойно. Где же он знал подобное? Да, да. Подобное было тогда. В то время он уже кое-что понимал в книгах. Там он смог познакомиться с литературными обзорами Белинского, с герценовским романом «Кто виноват?», там он следил за обновленным «Современником», с упоением читал первые рассказы Тургенева и замечательные письма Мамотина… Какое было прекрасное время! Расцвет таких дарований! Рождение натуральной школы. Да только ли это?
Он и тогда уже был немолод, но какую удивительную легкость и подъем сил ощущал он! Прочитав за ночь книгу, со светлой головой шел на службу.
Да, служба, служба… В ней прошла жизнь. Она была смыслом жизни. Ложась спать, думал о службе, она снилась ночью, и, просыпаясь, он с огорчением вспоминал о том, что им еще не сделано.
Он появлялся в казарме задолго до подъема и наводил порядок. Часто маршировал с солдатами. Знал, его усердие видят, старания оценят. И он старался. Он хорошо командовал своими солдатами. Но у него не было друзей. Иногда где-нибудь на учении он направлялся к только что смеявшимся весело офицерам, он тоже хотел шутить и смеяться. Но при нем замолкали. Круг перед ним смыкался.
А когда-то были друзья. Его любили солдаты за товарищество, командиры за удаль и молодечество. Служба была не только тяжелым крестом, но и радостью.
Пришло время, он получил офицерский чин. Все силы он вкладывал, чтобы равным войти в этот заманчивый круг избранных, что, казалось, должен сейчас открыться для него. Он продвигался по службе, но с ростом в чине ничего не менялось. Он стал майором, но так и не смог попасть в этот всю жизнь стоявший перед его глазами круг. Сколько же лет потребовалось, чтобы понять, что никогда он туда не попадет, что суть не в чине – в безродности! Другие могли уйти в отставку, жить обеспеченно. Ему уходить было некуда. Состояния он не нажил, своим в офицерской среде стал только формально.
Да, все это он понял раньше, чем стал майором, но не хотел себе в этом признаться. Он гордился своим положением, тем, что солдатский сын вышел в люди. Но былой интерес к службе пропал, все чаще стала им овладевать хандра. Может, поэтому он ухватился с радостью за петрашевские «пятницы»? Нет, об этом он думать не будет. Не хочет.
Под одеялом было душно. Он долго ворочался, голова на подушке никак не могла улечься. «По ночам совесть покоя не дает, – говорил старый Герасимов, – думаешь, все думаешь». Вот и коляне его растревожили. Хотел узнать одно, а вышло…
Что же он хотел понять в них? Да, да. Что заставляет их так болеть об этом деле? Ведь знают: жизнь на исходе, скоро умирать, а собрались к царю: «Не боимся наказаний». Петрашевский тоже не боялся. Господи, что это за сила – убежденность? Что можно ей противопоставить?
Шешелов лег на спину, натянул одеяло до подбородка, глядел и глядел в темноту.
29
…На плац-парадное место Семеновского гвардейского полка караул не пускал посторонних, и народ грудился на валу. Утро было пасмурное, промозглое. Неведомыми путями слух прошел по Петербургу, и толпа на валу росла, стояла недвижно и терпеливо, ждала молча. На плацу высокий помост с перилами, а рядом – одиноко вкопанные столбы. Свежая земля комьями чернела на снегу. У костра грелся палач. С трех сторон помоста разворачивались подходившие войска. В морозной тишине тяжелый шаг солдат и слова команды.
У Шешелова уже лежало в кармане предписание в Архангельск, он направлен в Колу, он давно обязан был ехать, но сказался больным и все оттягивал свой отъезд.
– Везут! – ударило по толпе, и ее качнуло. Шешелов напрягся, оттолкнул какого-то жителя петербургского в лисьей шапке и протиснулся в первый ряд.
Их высаживали из тюремных карет каждого под конвоем двух солдат. Толпа напирала, теснила, но Шешелов все же видел их: Достоевский, Спешнев, Дуров, Петрашевский… Господи, сколько прошло с тех пор? Какие страшные, худые лица! Когда все это началось? Шесть, семь? Да, да, восемь месяцев назад, и каждый сидел в одиночке.
Их построили и повели вдоль рядов солдат: ритуал позора. Поп в длинной рясе замыкал шествие. Солдаты опускали глаза. Молчание – погребальное. Под ногами скрипел снег.
Затем их построили на эшафоте. Петрашевский стоял впереди. Со всех сняли шапки. Военный аудитор читал приговор сената. Площадь замерла и перестала дышать. Тишина была зловещей. Аудитор читал приговор каждому. На площадь падали слова, ударяли по толпе эхом. «Расстрелянием… расстрелянием… расстрелянием…»
Было слышно, как в костре потрескивали дрова. Толпа в ужасе косилась на врытые столбы.
Поп начал с Петрашевского и обходил всех, гнусаво призывал к исповеди и покаянию. Никто не каялся. От исповеди отказались.
Осужденные стали прощаться, Достоевский подошел к Спешневу, и Шешелов слышал, как по-французски он негромко сказал: «Мы будем вместе с Христом» – и как усмехнулся Спешнев: «…горстью праха…»
С Петрашевского, Момбелли и Григорьева палач снял верхнюю одежду, натянул на них смертные балахоны. Этих троих первыми повели к столбам. Они спускались с эшафота, и до толпы донеслись слова: «Каковы мы в этих одеяниях?»
Господи, они еще шутили!
Толпа не шевелилась. Тысячи глаз следили, как палач привязывал смертников к столбам, как против каждого выстраивались пятнадцать солдат с ружьями.
Момбелли скрестил руки на груди. Его так и привязали. Григорьев вытащил из савана руки и перекрестился. Петрашевский стоял спокойно. Последние приготовления. Солдатам подали команду заряжать. Палач обошел смертников и опустил на глаза колпаки. В леденящей кровь тишине отчетливо прозвучал голос Петрашевского: «Момбелли, поднимите выше ноги, а то с насморком придете в царство небесное».
Шешелова трясло. Знакомая за последнее время, бросающая в пот, дрожь страха: он мог бы оказаться там, с ними.
Когда дело петрашевцев всплыло, в жандармское управление вызывали и его. На допросе он показал, что поддерживает знакомство с Петрашевским и ценит его расположение только из-за книг. Без него он не имел бы возможности прочесть многие из них. Это было действительностью. Он не лгал.
Когда он понял, что литературный кружок Петрашевского превращается в политический, он насторожился. Стал больше молчать и слушать, высказывался редко и неопределенно. Он слишком хорошо помнил декабристов, не забыл, чем это кончилось.
На следующих допросах он показаний своих не менял. Да, он читал Леру, Фурье, Прудона, Штрауса и многих других социалистов. Но эти идеи чужды ему. В социализм он не верит. Власть монарха считает единственно разумной. Нет, о прочитанном он ни с кем не беседовал. Он тогда просто перестал бывать у Петрашевского. Кто что говорил на «пятницах» – он не помнит за давностью. И ненавидел сидящего перед ним жандармского офицера, и боялся его до коликов в животе.
После допросов ворочался по ночам в кровати, взбивал подушку, ложился, снова вставал, ходил, курил, ждал – вот-вот арестуют. Только теперь понял, какая опасность над ним нависла. Чувствовал: ему, как и другим, пощады не будет.
После одной особенно бессонной ночи не выдержал напряжения томительной неизвестности, решил конца следствия не ждать. Добился приема к своему давнему благодетелю, до мелочей поведал свою историю дружбы с петрашевцами, просил помощи.
И завертелось другое жизненное колесо в его судьбе. Со сказочной быстротой следовало одно событие за другим. Его избавили от ареста, помогли уйти в отставку и, что было уже совсем неожиданным, дали назначение на должность, а точнее – выслали из Петербурга.
Да, он сейчас мог быть с ними. Стоять вон там в смертном балахоне.
…На площади все вдруг пришло в движение. Аудитор подал команду, и солдаты опустили ружья. Палач быстро отвязал смертников и привел их на эшафот. Аудитор читал государев указ, которым смертная казнь была заменена каторгой. Еще никто не понял, что случилось, не успел поверить в спасение, а тишину прервал желчным голосом Петрашевский:
– Вечно со своими неуместными экспромтами!
– Кто просил?! – раздраженно крикнул Дуров.
Петрашевского тут же стали заковывать в кандалы.
Но он отстранил палача, сел на помосте и сам заколачивал на себе кандалы. Потом уже, гремя ими, обошел всех своих, каждого обнял, прощаясь: его одного увозили на вечную каторгу прямо с эшафота.
Шешелов уехал в Колу с намерением не приближаться к политике. Жил тихо, занимался своей коллекцией – и вот, на тебе! Бесхарактерный трус! Никогда не имел убеждений. В душе поднималась глухая злоба. Он противен себе. Где бы ни жил он после войны, везде оставался чужим. Все имеют какую-то цель, привязанность, и только он, Шешелов, для всех белая ворона. Он мечтал о карьере, но не вошел в круг офицерства. С мещанами не дружил, боялся уронить свое достоинство. У петрашевцев увидел опасность и попятился. Другие за убеждения пошли на казнь, он от страха не смел шевельнуться. Теперь считал, что его коллекция – единственно возможное для него занятие. А тут приходят поморы – их больше смерти тревожит тайна передвинутой границы. Восемьсот верст земли. Для живущих здесь это не отвлеченность, а жизненная необходимость. Петрашевцы и эти поморы. Да, да. Такие люди нужны России. С убеждениями.
И, недовольный собой, ворочался в кровати.
Он чиновник. Ему не потерять бы достигнутого. Боже упаси провиниться! Он не может не дорожить благополучием. Из низов вышел.
И оправдывался перед собой: ведь всегда старался быть честным. Никогда не подставлял под удар другого. А с границей кто-то решил подставить его под удар. Но ничего, он восстановит граничные знаки, и снова установится тишина лет на тридцать…
В окна порывами бился ветер, упруго жался к стеклам, словно искал щели. Вновь подумалось о тайне нелепо потерянной земли, что тревожила умы кольских старожилов. «Такую обиду не могут забыть коляне», – говорил благочинный.
Нет, Шешелов не имеет права молчать. Он лучше других знает, как действовать, и должен писать. Он не хочет бездумно исполнять чужую волю. И ставить пограничные знаки не будет. Он останется честным. Покрывать галяминские плутни он не желает.
30
Суровые в Коле нравы. Совместные прогулки парней и девушек запрещены, и даже на вечёрках, где парни и девушки не сидят рядом, общие разговоры не допускаются: и танцы, и частушки под строгим присмотром кумушек. Но зато распространен на всем берегу своеобразный обычай-беседа.
В долгие зимние и осенние вечера, окончив дневные хлопоты, угомонилась и улеглась спать семья. А девушка, принарядившись, садится в своей светелке с какой-нибудь чистой работой. И к ней на огонек, на беседу, заходят парни-беседники. Поэтому и поют в своих песнях поморские девушки: мол, не гуляли они с милым, а сидели с беседником.