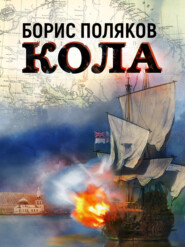скачать книгу бесплатно
РАПОРТ
Однако далее опять не шло. Написав слово «рапорт», он отложил перо в сторону, откинулся в кресле, задумался.
Писать он начинает не в первый раз. Но того нужного тона, тех слов, что вкупе составили бы желаемое письмо, у него не было. Вообще-то он, Шешелов, понимает, что суть, конечно, не в тоне. У него нет решимости. Он должен решиться и написать прямо или снова вызвать к себе стариков и объяснить: его долг – исполнить предписание губернии ставить пограничные знаки, и только.
Но даже в глубине души, подсознательно, он не знает, какое решение будет правильным. Тогда он не мог отказать старикам. Их тревога и боль были ему понятны. Он провел с ними чудесный вечер, сам напросился, сам обещал помощь, но, пожалуй, не может сделать того, что от него ждут. Риск очень велик. Можно однажды в порыве сказать: твоя честность, твое право на уважение к себе – в действии. А как решиться на действие? Что, если письмо не встретит поддержки, а наоборот? Полный личный крах.
Нуль – вот цена ему, Шешелову, в случае неудачи.
В дверь резко постучали. Шешелов вздрогнул, схватил со стола, смял начало письма. Обычно так стучал писарь. “Черт бы взял колченогого!” И медлил, не откликался, не хотел, чтобы видел писарь: Шешелов от него тайком что-то пишет. «Пусть подождет, – думал, – обнаглел очень. Служака обчеству».
Вчера после обеда Шешелов собирался спуститься вниз, в ратушу, и случайно услышал, как на кухне Дарья вела разговор с писарем, жаловалась:
– Не знаю, что и сварить, чтобы поел он. Привередливый да сумной стал. Молчит все. Не ведаешь, что и надобно…
На дворе был дождь, и писарь, видимо, обедал у Дарьи.
– Да-а, чтой-то твой барин аппетиту лишился…
С лестницы не была видна кухня, но Шешелов вдруг отчетливо представил себе прищуренный взгляд писаря и ухмылочку, как бы говорящие: «Э-э, повидал я вашего брата на своем-то веку».
– Какой мой, такой и твой, – сердито ответила Дарья.
Было слышно, как писарь громко хлебал уху.
– Ну-т, кума. Я сам по себе. Я ведь не для денег служу, а для обчества. Не вихляюсь туды-сюды.
Плескалась вода. Дарья гремела посудой.
– Знаем, не вихляешься. Только по юбкам, старый черт, и таскаешься.
Писарь, наверное, вытирал усы да не в спехе облизывал ложку.
– То, кума, дело житейское, бобыльное. То другое.
– Другое тебе. И барин тоже не Мамаю служит.
Охота спускаться вниз у Шешелова пропала. Осторожно, чтобы не скрипнула половица, он вернулся к себе и больше в ратушу не пошел. Рассчитать бы писаря за такую вольность, да где здесь другого сыщешь?
И когда, после второго стука, вошел, наконец, писарь, Шешелов вежливо произнес:
– Я сейчас занят.
Сидел неподвижно, смотрел, как писарь пожал плечами и вышел, не раскрыв рта. Это не был окрик: «Пшел на место!» Это лишь вежливое напоминание о нем. Но, хотя Шешелов был доволен собой, легче от срыва не стало. Так он с писарем. Почему бы не так с ним, Шешеловым, кто-то другой?
Ныли в коленях ноги, побаливала поясница, Шешелов узнаёт северик сразу. Сквозь щели окна, потом в плохо прикрытую дверь сочится сквозняк. И разбуженный ревматизм начинает ворочаться в суставах, словно ему там тесно. Надо сказать Дарье, что от окна дует. Затопила ли она печь наверху? Он не будет писать сегодня. Пусть потом, завтра. Сейчас ему хочется посидеть у огня и погреть ноги. Он снимет мундир, наденет теплый халат и оленьи пимы, будет смотреть на огонь, курить и не будет думать о рапорте.
И Шешелов сделал все, как хотелось. Топилась печь. Он сидел у открытой дверцы, смотрел на огонь, курил.
Ноги покоились в теплых пимах, колени грелись от пламени. В мягком, низком кресле очень удобно. Шешелов сам просил писаря обрезать ножки у кресла именно так: задние короче передних. Очень покойно сидеть и смотреть на огонь.
Когда Шешелов объяснил писарю, как нужно обрезать ножки, писарь молчал, но весь, его вид говорил: «Мне что – я обрежу. Да умно ли это – кресло портить? Лет сорок для всех оно было удобное». Чертов писарь. Он умудряется отравить Шешелову настроение даже своим видом. И сегодня – это пожатие плечами. Эдакое молчаливое превосходство: едкий взгляд и ухмылочка. Будто городничий тут не Шешелов, а этот хромой бестия. Понимает, черт, – не выгонишь. Будь Шешелов в другом месте, давно бы избавился от него. Но здесь это невозможно. Хоть и люди кругом, а житье, как на острове, – один. Правда, ему без особой надобности чье-либо общество. Независимость от горожан, книги и вырезки – это его вполне устраивает. Но иногда что-то срывается там, внутри, и тогда независимость становится одиночеством.
Как-то, будучи в настроении, Шешелов пошутил с писарем, но тот шутки не принял. А Шешелов знает: с колянами, с Дарьей писарь умеет смеяться.
Он и не глуп, этот писарь. Взять бы по-доброму да позвать его и рассказать все. Посоветовать мог бы разумное. По не позовешь теперь. «Я не вихляюсь туды-сюды». Конечно, он говорил о нем, Шешелове, но сам черт не знает, что он имел в виду. Может быть, догадывается, что губернское письмо извело Шешелова? Ничего мудреного: Почта ушла, ответ в губернию не написан. И о разговоре со стариками писарь наверняка знает. Все они тут одним миром мазаны. Однако сам о границе смолчал тогда. Боится наказания? Или соглядатай исправника? Шешелов иногда позволяет себе мысли вслух, не стесняясь его присутствия, а надо осторожнее. И эту молчаливую спесь следует сбить. Писарь хром, значит в солдатах он сроду не был. Взять и спросить его как-нибудь: «А ты вот, к примеру, знаешь, что такое война? А штыковая атака?» Да, именно штыковая.
…Тебя от земли отрывают будто с корнями, трудно, и бросают в бег чьи-то слова команды. И ты бежишь. Но это больше уже не ты: рот перекошен истошным криком, нет памяти, мыслей, только, набухнув звериным страхом, кричат из тебя все жилки тела: выжить бы! выжить! выжить!
И рядом бегут такие же – с почти невидящими глазами, с раскрытым зевом, с обезумевшей мольбой в глазах: чур меня! чур меня! чур!
Знаешь ли ты, писарь, как слаба плоть людей под штыком? Слышал ли ты когда-нибудь хруст ломающихся костей? А леденящие кровь вопли страха, боли, отчаяния, одинаковые на всех языках?
Он, Шешелов, безусый новобранец, вчерашний крепостной, убивал. Он делал все, как учили: бил прикладом и втыкал штык в чье-то тело. И зверел, и кричал при этом. И, визжа от страха, сам увертывался от чужих ударов, чтобы не быть убитым, и убивал, убивал. Потому что бежать из этого ада еще страшнее: нет страха сильнее, который ощущается спиной.
Да, он убивал таких же, с какими мог бы вместе идти на гулянье или выпить на ярмарке, а под старость просто по-соседски сидеть в летних сумерках на деревенской улочке да толковать о видах на урожай, о сенокосе или предстоящих крестинах у чьей-то кумы…
…Тогда ему адской болью обрушилось сзади на голову что-то тяжелое. Дневной свет зарябил и поплыл звоном. Земля пошла из-под ног, будто сбросив его с себя.
Очнулся ночью от боли. Лежал ничком, уткнувшись в траву. Голова гудела. Было темно. Сладко пахло мятой. Не помня, где он и что с ним, хотел встать, но тело сковало новой болью. Он вспомнил. Приподнялся на руках, оглянулся. Ноги были придавлены трупом лошади. Движения причиняли боль. Ночь, ясная и тихая, с обильной росой, как бывает перед жарким днем, низко играла звездами. Хотелось заплакать.
Когда-то давно он видел, как на барском дворе конюх прижал к земле вилами ласку. Острие не задело зверька, и он, извиваясь, крутился, кусая железные вилы, и страстно скреб землю, пытаясь освободить прижатый задок. Казалось, он готов был отгрызть его.
Теперь Шешелов сам был похож на ту ласку. Стараясь превозмочь боль, он судорожно рвал траву, пахнувшую медом, и скреб землю, ломая ногти, и скулил от бессилия уползти из своей ловушки.
Потом под руки попалось ружье, и он отчаянно стал рыть штыком, пока не удалось развернуться, сесть и, наконец, вытащить то, что было его ногами. Но встать не мог. И, волоча ноги, он пополз на руках, скуля и всхлипывая, туда, где, по его памяти, была река. Полз, натыкаясь на уже остывшие тела. Мысль, что он жив, что еще сможет выжить, толкала его вперед.
Сколько их тогда осталось в живых? В лесу он наткнулся на троих, и все были ранены. Командир роты, поручик, чуть старше Шешелова, а выглядевший мальчишкой, высокородный, богатый, красивый, плакал от боли, страха и неизвестности. Два знаменосца полка – один, раненный в живот, не поднимался, другой немного ходил.
Целый день они сидели в лесу, видели, как французы согнали на луг крестьян убирать трупы. Слышалась чужая речь. День был жаркий, с луга несло смрадом.
К полудню ноги у Шешелова стали отходить. Ходячий солдат промыл ему рану на голове, и он поспал. Вечером встал на ноги, хотелось есть. Возвращались силы, и Шешелов понял, что остался жив.
Ночью, оставив в ельнике двоих, неспособных двигаться, они пошли с солдатом вверх по берегу, к деревне. На той стороне были лодки. Переплыли речонку: не вылезая из воды, взяли лодку и, держась за нее, поплыли вниз. Когда Шешелов причалил у леса, солдата не оказалось. Шешелов не видел, куда тот делся, но решил, что утонул. Потрясенный, он опустился на сырую кочку, возле лодки, и, держась за уключину, плакал.
Вернувшись в ельник, он перенес ротного и знаменосца в лодку и оттолкнулся от берега. Солдат под утро затих, ротный бредил в беспамятстве. Шешелов не знал, куда плыть, что делать. С рассветом загнал лодку в кусты, выкопал штыком ямку, как мог, похоронил солдата. Знамя он обмотал вокруг себя, сверху надел мундир: стал толстым, неповоротливым, зато согрелся.
Тут и провел он день. Ротный в сознание приходил ненадолго, просил пить и молил: «Ты не бросай меня, Шешелов, не бросай. Уж я тебя вспомню, наградят тебя», – мучился болью, и плакал, утирая глаза кулаком, и снова впадал в забытье.
…Поленья в печурке сгорели, золото углей поблекло. Жар отцветал в налете пепла. За окном низко висели тучи. День угасал. Время подходило к обеду, но есть не хотелось. Сорок лет назад он мечтал о просяной каше. Он тогда мог бы съесть ее много. Да, господин писарь, очень много. А что подобное можешь ты вспомнить?
Но возвращаться к молчаливому спору с писарем разбуженная память теперь не хотела. Она услужливо подавала ему отрывки того, что когда-то, давно очень, было и ушло навсегда.
Бывший ротный, теперь командир полка, сдержал слово. За спасение знамени полка и жизни командира Шешелова наградили, как ему и не снилось: вчерашний крепостной, новобранец стал прапорщиком. Солдаты при его появлении вставали, желали здравия, говорили: «Ваше благородие». Благородие!
За окном темнеет. На улице дождь. В комнате тепло, сухо. Подольше не приходила бы с обедом Дарья. Приятно сидеть одному, в тиши предаваться воспоминаниям.
Шешелов выбирает поленья посуше, подкладывает их в печурку. Хорошо у огня. Да, славное было время. За что бы ни брался он, все выходило удачно, спорилось. Ему везло. Пули его обходили.
…Он хорошо помнил, будто недавно было, как в крестьянской одежде шел по незнакомой деревне. На площади у церкви дымились костры, варился в котлах ужин. Стояло в козлах оружие. У коновязи распряженные лошади. Все говорило о том, что французы расположились на отдых.
За деревней в лесу, откуда брел Шешелов, остались его солдаты. Пора было возвращаться к ним и идти в свой полк, доложить, что французы, похоже, о преследовании не думают. Отступая, их полк измотался и тоже нуждался в отдыхе.
Французы вели себя беззаботно: охранения не выдвинули, и Шешелова никто не окликнул. Он брел, прихрамывая, опираясь о палку, приглядывался к чужой, непохожей и очень похожей солдатской жизни. Впервые с тоскливой завистью помянул про себя бар, которые понимали чужой язык.
На другом конце деревни, у околицы, французы жгли костры, сидели у шатров, чинили амуницию, стирали в речке. Мирно пахло дымом и варевом.
На мосту колесом провалилось орудие, и путь в деревню закупорился: успела проехать только одна мортира, запряженная цугом. Смирно стояли лошади, возжи кинуты на лафете. Обслуга, похоже, вернулась помочь на мост.
Шешелов сосчитал пушки, шатры и костры на околице, прибавил к тем, что были на площади. Пора было засветло возвращаться, а он стоял и рассматривал лошадей: хорошие, сильные лошади. Шешелов осторожно причмокнул, понукнул их. Они поперебирали ногами, словно не решаясь трогаться без вожжей, и, когда Шешелов причмокнул еще раз, медленно пошли с места.
На мосту французы возились, галдели, показывали руками за речку, на березовую рощу: им, видно, нужны были ваги.
И жаркая волна отваги, лихости толкнула Шешелова на лафет. Собрать вожжи было делом мгновения.
От шатров смотрели французы. Время шло к ужину, к ночи и отдыху. Шешелов знал, какая бывает расслабленность у костра вечером. Понимал: пока придут в себя, он будет в деревне, – и ударил по лошадям, пустил их в бег. Мортира глухо застучала колесами по твердой дороге, и тогда сзади послышались крики. Но Шешелов уже погонял шестерку в деревню, в улицу.
На площадь у церкви он вылетел с грохотом. Скакал в полный галоп, молча нахлестывая вожжами. Французы шарахались в стороны, удивленно смотрели. Их ружья стояли в козлах, кони были распряжены. И Шешелову хотелось кричать, как кричал озорно и лихо барский кучер, гоня по деревне тройку: «Э-гей! Поберегись, мать вашу!»
Стучали по твердой дороге колеса, стучали двадцать четыре кованых копыта. Шестерка неслась по деревне, слышны были выстрелы. Но Шешелов не боялся. Стрелять по нему в деревне не станут: своих побьют. А вот остановить спереди лошадей могут. И он погонял молча, чтобы крик наперед его не выдал.
У последних домов Шешелов оглянулся: сзади, за пылью, скакала погоня. Он прикинул расстояние до леса и до погони и, все еще распаленный волной неуемного озорства и удали, закричал, оглядываясь назад: «Догоняй теперича! Ушли мы! Эгей! Поберегись! Пошел, милыя!» И, приближаясь к опушке, орал что было мочи: «Ружья! Ружья, ребятушки! Встречай конных на ружья! Смело встречай! Попридержи их залпом!»
И, когда за спиной прогремел первый залп, Шешелов понял, что теперь ни с ним, ни с солдатами его ничего не случится. Французы на ночь в лес не пойдут.
Потом они ехали. Кто сидел на мортире, кто трусил рядом, но все поглядывали назад: не верилось, что простят свой конфуз французы. А когда отъехали далеко и прошло ожидание погони, всех стал разбирать хохот.
Луна всходила полная. Лес заливался чешуйчатым светом. Ночной воздух густел прохладой – голоса далеко слышно. И Шешелов, давясь смехом, снова и снова рассказывал, как гнал лошадей по деревне, как, не понимая происходящего, смотрели, раскрыв рты, французы.
Смеялся он, смеялись солдаты, наперебой вставляя, что думал каждый, увидя Шешелова и погоню, как стрелял, как поворачивали назад французы.
Ехали шагом. По стылой дороге катилась мортира. Солдаты шли обок, Шешелов восседал на лафете. Он представлял, какие в полку будут толки о нем, о мортире, и, довольный, выговаривал про себя безликому недругу: «Оно, конечно, в карты нам играть не на что. И в туза из пистолета враз не уметить. Но зато мы смекалкой да хваткой не обделенные. Так-то вот, судари благородные».
Да, в схватках он вел себя отчаянно. Какое-то удивительное чутье подсказывало, что все будет благополучно: он еще закатится в родную деревню на почтовых. Не крепостным – офицером! Будут подарки родителям. Будет деревня у окон избушки пялить глаза завистью, старики кланяться издали, баре звать к себе в дом, чтобы на него глянуть. Будет еще очень много: служба, женитьба, чины.
Тогда он не мог предвидеть, что пережитый им в молодости страх вернется. Придет пугливым вздрагиванием на любой шум и постоянным ожиданием ареста. Он заявит о себе кошмарными снами и пробуждением в поту. Потерять все достигнутое? Оказаться опять крепостным или, хуже того, – на каторге?
Когда к жандармам вызвали и его, он снова почувствовал себя под трупом лошади с придавленными ногами. Но тогда, раньше, это длилось недолго, а впереди была целая жизнь и были силы. Теперь главным было прошлое. И он делал все, чтобы сохранить его, уползти. Он был угодлив и расторопен на службе, он бегал по знакомым и всем старался казаться благонамеренным. Да, он скулил и крутился.
Его письмо к князю тоже было пропитано страхом. Он писал его, торопясь, выворачивал себя наизнанку – мол, запутался, не углядел, как попал к петрашевцам; его, дескать, не политика привлекала – нравились их слова: воспитание каждого человека всегда не окончено, и он сам должен стремиться к образованию себя. Он, Шешелов, раскаивается.
В чем он раскаивался тогда? На власть он не посягал, других преступлений не делал. Казнить его было не за что.
С князем Шешелов не встречался лет двадцать. После войны князь ушел вдруг из армии, уехал послом за границу. Теперь говорили, что вернулся в столицу он членом Государственного совета, пользовался особой благосклонностью монарха.
…От долгой неподвижности затекли ноги. Шешелов встал поразмять их, прошелся. В пимах ходить было мягко. Отогревшиеся колени не ныли. Он смотрел в черные стекла окон. Встречу с князем помнил до мелочей. Помнил, как в большом и прекрасно обставленном кабинете тишина дышала силой и властью. Множество окон и масса света. И прямо в глаза – огромный портрет царя. Рама толстая, золотая, уходит до потолка. Царь стоит, опираясь рукой на эфес сабли. Поза величественная. Сразу чувствуешь – царь! И хочется поклониться.
Под портретом письменный стол, а рядом так же величественно стоял князь – человек, которому Шешелов обязан личным дворянством, чином восьмого класса. Он стоял очень прямо, чуть вскинув голову, большой палец правой руки заложен за борт шитого золотом мундира.
Размеры и обстановка кабинета сделали Шешелова маленьким, ничтожным. Ковровая дорожка к столу была бесконечно длинной.
Шешелов уже начал раскаиваться, что написал, что пришел. Страх снова овладел им. От волнения в горле першило, и вместо задуманного почтительного приветствия Шешелов произнес что-то бессвязное, непонятное даже себе. Лицо сиятельного дрогнуло в улыбке, он слегка наклонил голову в знак ответа и сделал приглашающий жест рукой, сказал, не напрягая голоса, радушно:
– Ну конечно, можно! Разумеется, можно. Пройди, пройди сюда.
Голос у сиятельного погустевший, размеренный, не похожий на тот, которым плакал когда-то ротный: «Ты не бросай меня, не бросай…» Череп сиятельного был голый, у висков торчали остатки волос.
Шешелов шел к столу негнущимися ногами. Князь сделал навстречу несколько шагов и взял его за локти. Шешелов видел: сиятельный действительно рад ему.
– Давно мы с тобой не видались, Иван Алексеич. Сколько лет прошло… Жизнь! И, судя по тебе, я, наверное, совсем старик.
После допросов в жандармерии, после всех страхов, треволнений и отчаянного письма Шешелов приветливости не ожидал. Внутри что-то дрогнуло, захотелось пасть на колени и благоговейно поцеловать эти тонко пахнувшие духами руки. Они очень много сделали для него. Это они запросто хлопали его по плечу, когда князь хохотал над рассказом о похищении мортиры: «Ай да прапорщик, ай да удалец!» Они вручали ему награды. Они пять лет платили французу, который учил Шешелова читать и писать.
– Старость, она, брат, ни чинов и ничего другого не разбирает, – говорил князь и с улыбкой разглядывал Шешелова, словно пытался заглянуть ему в душу, словно оценивал и сравнивал что-то ведомое только ему. – А какие мы с тобой молодцы были! Как французов били, а? Помнишь? Годы, годы! Старость берет беспощадной рукой. И нет от нее спасения.
Взгляд у сиятельного стал влажным. Он отвернулся и молча походил по кабинету: одна рука большим пальцем за борт, другая согнута за спиной. Потом опять подошел к столу, сел на мягкий с резной окантовкой стул, и, словно прогоняя наваждение, зажмурился крепко, в морщины.
– Сядь, – тихо сказал он Шешелову.
Шешелов покосился на кресла, в которые, видимо, никто никогда не садился, и, не дойдя двух шагов до них, остановился.
– Разрешите стоять, ваше сиятельство.
И совсем уже осевшим голосом добавил:
– Я пришел к вам защиты просить и помощи.
Брови у князя слегка поднялись, взгляд как бы возвращался к действительности.
– Да, я читал твое письмо, – устало и огорченно сказал он. – Это неприятная история. Ты попал к скверным людям.
– Ваше сиятельство, вы знаете – я крепостной по рождению, вашей волей в офицеры произведенный. Воспитания не получил большого. Где мне разобраться было.
Взгляд у князя из-под бровей посерьезнел:
– Однако разобрался, как пишешь.
Шешелов помнил, что писал князю. Все искренне, все как было.
– Разобрался лишь время спустя. И сразу ушел от них. И помыслов против веры, царя и отечества не имел. И книг не читал более подобных.
– Верю, что не имел помыслов, – медленно сказал князь, – и рад, что силы мои не зря потрачены на тебя.
Он откинулся на стуле и смотрел теперь мимо Шешелова, куда-то в сторону, говорил в раздумье:
– Тяга к книгам, к знаниям. Непрестанный поиск места приложения умов…
Он встал, отошел к окну и стоял, заложив назад руки, спиной к Шешелову, долго и молча. Потом, не оборачиваясь, заговорил будто сам с собой: