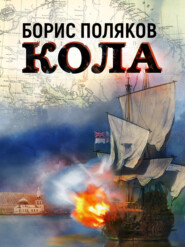скачать книгу бесплатно
10
Поутру всполохом ударил колокол. Андрея словно пружиной подкинуло. Он сел ошалело: звон был настойчивый и призывный. С чего бы это? И стал тормошить Смолькова.
– Слышь, колокол набатит…
Смольков смотрел пустыми спросонья глазами. Вчера на горе меж ними легла какая-то отчужденность. Вернулись с вараки и больше не разговаривали. Вечером, укладываясь на сеновале, Смольков окинул Андрея взглядом и усмехнулся: «Ничего, перебродишь, зелен еще…» Андрея снова покоробили смольковская привычка растягивать в улыбке губы, не разжимая их, и его самоуверенная снисходительность. Так и уснули. Теперь Смольков, наверное, вспомнил вчерашнее. Он прислушался и сонно зевнул. – Ну и что? – спросил равнодушно.
– Случилось, никак, что-то?
– Тебе-то чего? Спи. – И стал укладываться. Но Андрей схватил его за плечо:
– Ты послушай, гудит-то как непонятно: не заутреня, не обедня. Может, беда какая…
Смольков проснулся совсем, опомнился, тревожно метнул взгляд по сеновалу. Звон бился под крышей, звал.
– Поостынь малость. Ведаешь, кто мы тут? Смотреть надо, что да как…
Он поднялся, осторожно открыл слуховое окно и глянул во двор. Утро влажное, с холодком обещало погожий день. Серебром разлилась роса. У будки во сне повизгивал пес. Было тихо и солнечно. Город еще не проснулся, и только звон плыл и плыл, наполняя все окрест.
В доме стукнула дверь, и на крыльцо выскочила хозяйка. В одной рубашке, босая, простоволосая, остановилась, тревожно вслушиваясь. И вдруг озарилась улыбкой, посветлела лицом, расцвела. Подняла оголенные руки, забрала в узел волосы, потянулась всем телом сладко и засмеялась. Голые руки, белые, полные.
– Гляди, какая она из постели. Мягкая… – зашептал Смольков.
Хозяйка увидела их в проеме окна, нахмурилась:
– Ну, чего вылупились, бесстыжие…
– Что-то колокол бьет. Думаем, может, беда стряслась, – пропел Смольков.
Хозяйка улыбнулась:
– Встречать зовет. Сударики наши, мужички плывут.
И опять засветилась тихой радостью. – Теперь в Коле праздники начнутся… – И спохватилась по-бабьи суматошно, скрылась в доме.
– Как это я не понял, что на благовест похоже, – сказал Смольков и обернулся к Андрею: – Смотреть пойдем?
– Пойдем, – согласился Андрей.
11
Взбудораженно просыпался город. Калитки хлопали, двери, лениво взлаивали собаки. Где-то потревоженно блеяли овцы и кудахтали куры. Улица наполнялась стуками, голосами. Бабы, старики, ребятишки здоровались на ходу, громко перебрасывались словами, спешили к крепости. Даже воздух, казалось Андрею, наполнился чувством людской общности, и это общее ликование поднимало в душе что-то необыкновенно радостное и прекрасное, как тогда, на верху горы.
Андрей и Смольков прошли крепостные ворота и стали на берегу, в сторонке, смотрели, как у причала шумно толпился народ. Многие одеты празднично, а кто в обносках. Событие волновало всех: одних ожиданием встречи с родными, других – возможностью поживиться. Над вараками раннее солнце лило свет на залив, а на нем белели паруса судна. Коляне выбегали из крепости, присоединялись к тем, кто пришел раньше, вглядывались.
– Кир! – неслось. – Кир идет! Герасимовых шхуна вернулась! Нашлись голубчики наши! – И торопились дальше, на мыс, где сливались Тулома и Кола, шли к причалу.
Казалось, коляне едины в радостном ожидании, и ничто их больше не разделяет – ни чины, ни богатство, ни старые обиды, и, словно со стороны, Андрей увидел, как они со Смольковым тоже нетерпеливо переминаются с ноги на ногу.
– Смотри, – толкнул Андрея Смольков.
Впереди, чуть ниже их, опираясь на трость, стоял старый Герасимов: прямой, сухой и широкий. В праздничной рясе к нему подошел священник, благословил его, поздравил с возвращением шхуны. Следом подходили богатые старики – поморы, ломали шапки, кланялись, заговаривали о Кире, посмеивались:
– Что, батюшка, теперь тебе хлопот будет – свадебки крутить? – И лукаво щурили глаза на солнце.
Тревожно смотрел на судно старый Герасимов. Жив ли сын и что приключилось с ним? Почему все это время не встречали его на Мурмане и в Архангельске? И беспокойно было на сердце. Вспомнилась своя полная риска молодость. Всю жизнь проработал на чужих судах, отказывал себе во всем, копил деньги на шхуну, но не хватило жизни, чтобы поплавать еще и на своем судне. Сын вот теперь…
Мимо пробегали коляне, здоровались – уважительно, как со старшей родней, и бежали дальше к причалу встречать родных и близких или что-то узнать о них. Широко раскинулись поморские селения по берегам северных морей, а не задерживались долго вести от сыновей и отцов, ушедших в плавание. Берегли поморы традиции дедов: передать домой весточку о сельчанах. Сидя в Коле, завсегда знал старый Герасимов, какие воды бороздит сын. И когда вдруг пропал Кир, то весь изболел душой: море обманчиво, беда всегда за кормой ходит. Беспокойные сны тревожили.
А шхуна светила белыми парусами, подходила все ближе. И уже на бортах можно было узнать колян-матросов, а на самом носу шхуны стоял его Кир.
Радостно стучало сердце старого Герасимова: вернулся сын, жив-здоров. Но супил брови, не показывал радости, говорил, что, пожалуй, заслужил Кир розги.
– Э-э, – посмеивались старики. – Не грозись. Теперь уже не отхлещешь.
– Иди, встречай благословясь. Не терзай душу гневом, – сказал священник.
12
Все долгое плавание думал Кир про возвращение в Колу. Много раз представлял себе этот миг, и когда после Абрамовых гор показалась соборная церковь и матросы стали креститься, крепился еще Кир, не разрешал себе верить, что все позади. А потом, когда обогнули Еловый мыс, то внутри словно узел запутанный распустился.
Как жемчужинка в раковине, покоилась Кола. Блестела куполами церквей в утреннем свете, поднималась над заливом, смотрелась свежая и умытая в его воды. А кругом обступили город вараки, терлись горбами о небесную синеву, грели золотую щетину кустов на спине, нежились и дремали на солнце.
– Бом-м! Бом-м! Бом-м!
Кир слушал, как навстречу плыл приветственный звон, видел, как бежали из крепости люди, собираясь на берегу, на узком причале. Они кричали что-то радостное, и Кир хмелел от этого шума. Его подмывало выкинуть на глазах у всей Колы что-нибудь залихватское, показать свою удаль. И не будь он сейчас кормщиком, он бы забрался на конец брам-рея и, раскинув руки, кричал на весь залив так, чтоб эхо шло по варакам:
– При-ше-ол!..
Не беда, что отец будет грозиться розгами. Кир все равно знает: отец им доволен.
Но сейчас Кир хозяин шхуны и кормщик. Он только пробрался на самый нос судна и оттуда махал рукой и орал что-то приветственное. Были в этом крике и радость возвращения, и упоение победой. Глаза его, кроме знакомой и будто бы чуть усохшей фигуры отца, которого он увидел прежде всего, искали в наплывавшей толпе еще одно, милое для него лицо. Оно ему каждую ночь снилось.
А шхуна уже подходила к причалу, занося корму, становилась боком, плавно сокращала расстояние.
– Навались, други-и! – кричал Кир и сам схватил багор, уперся с радостной силой, почувствовал под руками, как шхуна мягко ткнулась в старые доски причала. – До-о-о-ма!
Шхуну еще крепили канатами, а Кир уже выпрыгнул на дощатую твердь, навстречу пестрой толпе: это сюда он вез свою победу, для этих людей, для Колы-города. На пропахшем рыбой причале, где сам когда-то мальчишкой встречал отца, люди смеялись и что-то рассказывали ему наперебой, обступили его десятками ласковых рук, счастливыми глазами, теплом улыбок. Они о чем-то спрашивали и совсем не требовали ответа. У Кира глаза застилали слезы. И он не стеснялся этих слез, сыновней любви и преданности городу и земле, вскормившим его. В памяти мелькнул сырой Петербург, неуютный Гаммерфест, по-немецки аккуратный Архангельск…
А в толпе уже пробиралась знакомая поморская шапка, и из-под косматых бровей – родные выцветшие глаза. Толпа расступилась, и Кир, коснувшись рукой пропахшего рыбой причала, низко-низко, как и требовал обычай, поклонился отцу, честному народу, городу-крепости. Перекрестившись на лес церковных крестов и обняв отца, вдруг до боли ощутил знакомый запах своего дома, вспомнил, какое особое тепло в нем исходит от печки, где в долгие зимы слушал он страшные и захватывающие сказки. Вдруг вспомнил вкус домашней воды и голос реки Колы, по которому все коляне узнавали погоду, на миг закрыл глаза и услышал ее журчащий говор. Погоду она обещала хорошую. И Кир снова ощутил, теперь уже окончательно, что он стоит на Кольской земле, дома.
13
Вместе с отцом шел к крепостным воротам Кир, а за ними, окружив ликованием прибывших, направлялась в город шумная толпа колян. Выделялись прибывшие. В нарядных одеждах, счастливые. От них пахло морем, ветрами, вольницей и далекими странами.
Андрей глядел с восхищением.
– Крепкие ребята…
– Будешь крепким, – отозвался Смольков. – Работа тяжелая, зато чарка всегда вовремя. Вместо чая хлещут тресковый жир на ночь и утром. Уж я-то знаю…
На пригорке Герасимовы остановились, подошли к священнику. Кир смеялся. Большой, загорелый, с гарусной косынкой на крепкой шее.
– Благослови, отче…
Благочинный рассматривал Кира и матросов.
– По одежде вы теперь вроде бы немцы или англичане. Долго не было слуху о вас. Уж не в Англию ли ходили?
– Бери, батюшка, дальше! – смеялся Кир. – Что нам Англия?! Эка невидаль! В самый Санкт-Петербург поклон делали…
Толпа на мгновение притихла, а затем взволновалась и плотнее окружила священника и Герасимовых. Ссыльных теснили в сторону. И они отходили, пятясь, лишние и чужие.
А Кир все оглядывался, искал кого-то в толпе.
– Чего ты? – спросил благочинный.
– Да так, – неопределенно ответил Кир.
Старый Герасимов прятал в глазах улыбку:
– То, что найти не можешь, за морошкой ушло. Ноне к вечеру должно быть…
Кир еще раз оглянулся и крикнул:
– Тетка Матрена! Не дашь ли дом под вечёрку?
Дородная колянка, обличьем еще молодая, польщенная вниманием, приосанилась:
– Аль таким молодцам откажешь что?
И, вскинув голову, скрестила руки, подперев груди, улыбчиво смотрела на Кира.
– Ловкий, видать, парень, – хмыкнул Смольков. – Не зря баба-то глазами, ровно голодный на барской кухне. Так бы и слопала его.
– Эй, зуйки, кто всех ловчее? – Серебряная монета блеснула в воздухе из рук Кира.
Табунок мальчишек ожил, поглотил монету, пошевелился клубком пыли и вытолкнул из себя удачника. Портки на лямке через плечо, ноги босые, от грязи черные.
– Ходил стукальщиком? – спросил Кир.
Малец засунул сжатый кулак в карман.
– А то нет…
– Тогда знаешь, куда идти. Скажешь: просит-де Кир Герасимов к тетке Матрене на вечёрку пожаловать…
– Дома ведь место не обогрел, – старый Герасимов развел руками.
– Ух, стосковался я по нашим вечёркам! – Кир обнял отца за плечо. – Сплясать страсть как охота!
14
Первое лето самостоятельно возил Кир хлеб из Архангельска в Норвегию и на Мурман, ходил за моржами на Новую Землю, на Колгуев за птичьим пухом, на Онегу за досками, в Соловецкий монастырь с богомольцами. Грузом он не гнушался. Но главным была рыба. И он торопился к сроку на Терский берег за семгой, на Карельский – за сельдями, на Мурман – за треской и палтусом. В разгар лова Архангельск, как прорва, поглощал и поглощал тысячи пудов рыбы, пока не наступала отрыжка.
Кто первый делал привоз, успевал продать хорошо. Коммерсанты с готовностью перекупали рыбу и наскоро отправляли ее из города. Но чем больше привозили рыбы с Мурмана, тем разборчивее становились перекупщики. Холодные погреба-ледники были переполнены рыбой. Подводы, барки, карбасы – все то, что могло увезти рыбу сухим или водным путем в глубь России, было загружено, находилось в пути. Желающие продать бегали в поте лица. Плохо засоленная рыба портилась. В огромном порту воздух был удушлив. Цены с каждым днем падали. И тогда не раз бывало, что Немецкая слобода – английские торговые дома – за бесценок скупала все, что ушло от ее рук на промысле. Английские купцы прятали рыбу в свои бездонные подвалы, и она лежала до зимы, а потом продавалась в несколько раз дороже, с лихвой окупая затраты на пересолку, хранение и хлопоты.
Опоздание с продажей было разорением для поморов. Каторжный труд шел насмарку. Семьи обрекались на голод до следующего сезона.
Хозяева судов понимали, что падение цен на рыбу идет от большого беспошлинного ее подвоза в Архангельск иностранцами, в основном норвегами. А конкуренция с ними была не по силам. Немецкую слободу из Архангельска не уберешь.
Осенью, ставя шхуну на зимовку, Кир расплатился с командой и подсчитал барыши. Прибыль была невелика. Почти то же самое он мог получить за службу на иностранном судне, без лишних тревог, без риска разориться.
Основной доход Кир получал от рыбы. Но вместе с ним рыбу в Архангельск везли еще сотни поморских судов, и главное – иностранцы. Англичане на больших судах скупали рыбу в Норвегии и на Мурмане и везли в Архангельск. Рейс есть рейс, и от того, как быстро обернешься с Мурмана, сколько и какой привезешь рыбы, зависят барыши. Эх, если б не было иностранцев! Если б только русские привозили рыбу! Тогда поморы не зависели бы так от перекупщиков, что отправляли рыбу в Петербург сухим путем…
А что, если?.. И мелькнувшая мысль обдала жаром. Слыхано, ли такое? Чтобы морем да в столицу?! Даже англичане не делают этого. Да, может, это им ни к чему. Они хорошо загребают и здесь! Зачем им Петербург?
В портовом кабачке Кир встретил однокашника из Кеми. Тот лето проплавал у англичанина. Ходил в Лондон и Гамбург, возил груз в Архангельск. Был он важен, хвастал жалованьем, привольной жизнью, носил тройку из тонкого сукна, за столом то и дело поглядывал на часы, громко щелкал серебряной крышкой. Кир был ему рад, слушал его внимательно, но не шик занимал его. Словно ненароком расспрашивал он про подробности рейса, про ветры и течения, про берега и пресную воду, про то, куда что возили и где что сколько стоит. И постепенно догадка перерастала в планы.
Зиму Кир провел в Коле. На вечёрки ходил редко, больше сидел дома. Читал или писал, помогал отцу по хозяйству. С каждой почтой получал и отправлял письма в Архангельск и Петербург, разыскивал однокашников, кто пристал к коммерческому миру, – вызнавал про торговлю. Его интересовали цены на рыбу, соль, пушнину и хлеб в разные времена года за все последнее десятилетие. Отец исподволь наблюдал за сыном, радовался, что дело его увлекло, про себя посмеивался уважительно: “Ишь ты, не только помор-мореход – коммерческий человек растет, купец!» О замыслах сына он не догадывался, а Кир молчал. Выписал себе книги по коммерции и тщательно изучал их, стараясь постигнуть хитрости торгового ремесла. И хоть с осени все было готово на шхуне, задолго до навигации собрался в Архангельск: «Поеду я, отец. Чтобы летом простою не было, надо побеспокоиться. Опыту мало, как бы не упустить чего». Отец не возражал. «Значит, забота гонит», – похвалил про себя.
В Архангельске Кир разговаривал с купцами, приказчиками, обозными ямщиками и все выспрашивал, выспрашивал, сопоставлял разговоры и факты, проверял свои планы еще и еще раз. При случае приглядывался к новым иностранным судам.
За лето Кир опять избороздил Белое, Баренцево и Печорское моря. В портах не задерживался. Его шхуна не знала простоя. Он никому не сказал о цели похода. «Знай не проболтаются», – думал Кир. Команда узнала новость далеко от берега. С тех пор и потеряли шхуну Кира… Его ожидали в Архангельске, спрашивали на Мурмане, но Кир словно в воду канул. Многие предполагали худое, но больших штормов давно не было. А дни шли, шхуна не появлялась, и все терялись в догадках. И вдруг, вместо того чтобы быть на Архангельской ярмарке, Кир появился на Мурмане с новым грузом. Из Петербурга!
Повезло Киру. Он пришел в столицу и не только успешно продал рыбу и выгодно закупил хлеб нового урожая и соль. Доход настолько превысил его ожидания, что можно было думать о постройке нового судна не через год-два, а уже ныне. И это как раз к делу: впредь для такого плавания потребуется иная шхуна. Корабль нужен крепкий, на ходу легкий, с просторными трюмами.
В Петербургском порту Кир нашел время поосновательнее приглядеться к иностранным судам. С некоторыми шкиперами завел знакомство, угощал в ресторации, сам побывал у них в гостях, глядел, щупал, расспрашивал.
Часами находился Кир у причалов. Вспоминалось не раз ему, как мальчишкой еще, словно зачарованный, смотрел с приятелями на работу старого корабельного мастера, который под хохот колян начертил у кабака прутиком на снегу лекала будущего судна да так, на спор и смех, сколотил его за зиму по этим лекалам. Удивляя весь берег, старик ходил на нем несколько лет в Норвегию и Архангельск, пока не настигла в пути непогода…
Не мудрствуя строили суда в Поморье. И лесу хватало, и мастера были преотличные, да заказчики-то привыкли строить по старинке. Брали при постройке судна ширину на пять-шесть вершков шире трети длины, а половину ширины – для высоты трюма. Вот и вся корабельная наука. Остальное – как на ум падет… Поэтому и лодьи поморские на ходу тяжелы, неповоротливы, а коль в большой шторм попадут – уповай на бога, авось смилостивится!
Все это Кир понимал еще в училище, но когда пытался высказывать свои мысли, поморы только посмеивались: “Нам в чужие моря не ходить. А у себя на Севере мы везде дома, пройдем на этих получше англичан твоих…”
Теперь Кир нагляделся на разные корабли, знал, что ему нужно. За хорошую плату приобрел в Петербурге, кроме карт на обратную дорогу, чертежи превосходного судна. Про себя загадал: «Коль доберусь до дому благополучно – строить начну сейгод. Чтоб к весне быть готову».
Удача сопутствовала Киру. А он хотел бы ее разделить на Колу. Чтобы не только он, а и коляне ходили вместе с ним в Петербург. И не по одному разу! Но первый и самый большой куш, конечно же, ему, Киру Герасимову. На том и стоит купеческий мир, главная заповедь – не зевай!
Но Кир понимал и другое. Ему просто могло пофартить. Неведомо еще, каким будет обратный рейс. Фарватеры сложные, особенно в датских водах, совсем незнакомы для кольских поморов, и риск повсюду будет еще немалый. Но главное было доказано: можно возить северные товары в столицу, минуя архангельских перекупщиков и иностранцев. Кир как бы воочию видел перемены в коммерческой жизни Мурмана: увеличение доходов местных купцов и промышленников, оживление промыслов и, что радовало особенно, возможность основательно потеснить иностранные торговые дома и их судовладельцев, что сегодня держали в своих руках мурманскую торговлю.
15
Почти целый день не умолкал колокол. Подходили и Кольской крепости юркие шняки и раньшины, тяжелые лодьи и легкие на ходу шхуны: с промысла возвращались поморы. Загорелые под незаходящим солнцем, просоленные ветрами, возвращались довольные: осталось позади трудовое лето.
Ссыльные вернулись на сеновал подавленные увиденным. Голодные, ждали хозяйку, лежали молча. На сеновале было полутемно. Внизу мерно жевали коровы. Пахло навозом, теплом от скотины, деревней. Андрей вспомнил, как стояли на берегу. Хоть и люди кругом, а они одни оказались. Как в лесу, когда в бегах был. Будто никого рядом. Хоть волком с тоски завой. И сейчас еще худо было. Не видел он встреч подобных, не знал, что может быть такой праздник. И зависть брала: ему бы вот так вернуться! Чтоб его так вот ждали, с берега имя его выкрикивали, шапками бы махали…
И вспомнилась мать. Провожая его в солдаты, стояла она за околицей заплаканная, старенькая, худая. Так и не смог увидеть ее еще. Не дождалась. Да и где дождешься? Служить двадцать пять лет – почитай, всю жизнь. А она и года не прожила… Потом вспомнились казарма, обучение ружейным приемам, ненавистное лицо унтера, шагистика, битье кулаками в лицо и первый побег, жгучая боль от шпицрутенов, глухая злоба в душе и снова побег…