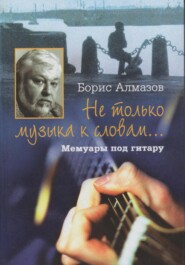скачать книгу бесплатно
– Что ты натворил? – спрашивала мама меня.
– Я пел.
– Какие слова? – волновалась мама, – Вообще то он у меня не озорной, – говорила она старичкам и дяденькам, которые шли с нами толпой.
– Пять лет! – стонал тот, без пиджака, – Пять! Какая жалость!
– Почти шесть, – говорила мама, извиняющимся голосом.
Нас привели в большую, светлую комнату, где за печатной машинкой сидела красивая, молодая тетя. Она дала мне чаю с конфетой, пока мама уходила куда -то за высокую темную резную дверь.
Скоро она высунулась оттуда и позвала меня
– Иди – покажись! – вид у нее был испуганный и одновременно гордый.
Я вошел. В кабинете за огромным письменным столом сидел (сразу было видно) начальник. Он улыбался и кивал мне, но сказал:
– Не выдержит. Мал.
– Но может быть, в виде исключения… – стали просить старичок и тот, без пиджака.
– Товарищи! – веско положив огромную руку на стол, сказал начальник, – Существует установка – от семи до восьми. И это согласовано с медициной. А ему еще шести нет. А он вон еще субтильный какой! И вы уважаемая даже не знаете о чем просите … Это же адская жизнь! Ка- тор-га!
– Да я ни о чем и не прошу! – краснея, сказала мама, – Мы, вообще, сюда случайно зашли, со знакомыми.
– Приходите через годик! – сказал начальник. – Через годик сколько ему будет?-
Шесть с половиной! Ну вот, тогда еще можно будет о чем –то разговаривать.
Я не помню, попали мы в тот день в Эрмитаж или нет. Думаю, что нет.
Помню, как мы шли по Невскому, мимо какой –то студии звукозаписи. И мы зашли туда. Там разные мелкие мальчишки и девчонки пели и читали стихи, а их записывали на пластинку, а пластинку можно было взять себе. Но голоса на пластинке были совершенно не похожи на те, которыми пели или говорили ребята. Поэтому мы не стали записываться. Так сказала мама. Но я думаю, что у нас просто не было денег.
Весь вечер мама разговаривала с бабушкой.
– Может быть это его судьба? В конце концов, у нас все пели. И у тебя был голос, если бы не война… – говорила бабушка.
– Но ведь это интернат! Нужно будет его отдать! Отдать навсегда! – говорила с ужасом мама.
И я замирал от страха: – Как это меня отдать? Кому?
– Возить его со Ржевки, ежедневно, к восьми утра – немыслимо. Мы его потеряем! – говорила мама.
– Господь все управит Сам, ко благу..– закончила разговор бабушка: – Все в Его воле. На Него и положимся. И нечего себе голову дурить…Станем жить, как жили. Господь разберется.
И она оказалась права. Осенью я заболел коклюшем. И кашлял, выворачиваясь на изнанку как варежка, месяца два.. После чего у меня голос не то чтобы пропал, но так изменился, что уже никого не поражал и петь мне еще долго было трудно.
О капелле мы не вспоминали, хотя мама и бабушка говорили иногда:
Стало быть, судьба такая… И слава Богу … А жизнь еще не вся… Еще все только начинается.
Я потихоньку плакал. Мне было жалко пропавшего голоса и того счастья, что ушло вместе с ним, и все это сливалось для меня в прозрачное и печальное, будто стук дождевых капель по стеклу, слово «капелла»…
А летом вдруг в нашей коммуналке появился тот, что пел со мною про Горные вершины. Я бегал по двору, когда мальчишки прибежали и закричали:
– Борька, к вам дядька какой-то приехал, в шляпе!
И я помчался домой, замирая от мысли, а вдруг это приехал мой отец или его, может быть его фронтовой друг, потому что я знал – отца уже нет на свете. Но мало ли что…
И уж никак не ожидал я увидеть в нашей комнатушке того – из капеллы.
– Ну вот … сказал он: – Ну вот… А я все думаю, что же ты не едешь…Вот сам приехал к тебе, а ты, говорят, болел…
– У меня голос пропал . – сказал я глядя ему прямо в глаза.
Он заморгал виновато и я увидел, что у него ресницы длинные, как у поросенка, а все лицо в веснушках.
– Это бывает! Бывает! Ничего, не горюй! Еще появиться! Сейчас, главное не упустить время! Это вот я и маме, и бабушке говорю… Он повернулся к ним и, прижав руку к белой рубашке с галстуком бабочкой, сказал: – Ну, хорошо! К нам не попадет, но слух-то редкостный! Слух-то – дар Божий! Надо учить музыке! Непременно! Непременно! Чего бы это ни стоило!..
Вот так я попал в музыкальную школу, куда меня приняли сразу после первого прослушивания. И начались мои страдания, с которых начинается жизнь каждого не то что музыканта, но любого ребенка, берущего в руки инструмент…
Недавно Наталия Гальперина выпустила книгу «Музыка без слез», где она – выдающийся педагог, рассказывает, как можно обучать, чтобы потом, вспоминая детство, человек не называл период с первого по пятый – седьмой класс «фортепьяно с ременным приводом».
Но даже, когда без слез – это тяжелая работа, только с приходом мастерства приносящая радость, а до того – пот и слезы. Слезы, которые я помню до сих пор – полвека спустя. Написал – и страшно сделалось. Полвека! Как быстро!…
Но, вспоминая свои муки и радости, в пору перепиливания скрипки, я вспоминал и величайшую доброту, с которой столкнулся, потому что только она помогла мне не озлобиться и не растерять, свойственной каждому человеку, веры в хорошее и светлое.
А того первого, который, буквально, втолкнул меня в музыку, я не забуду никогда ! Мало ли голосистых мальчишек! Ведь не поленился, разыскал нас в нашей коммунальной дыре. Приехал, чтобы вытащить, обучить, сделать музыкантом, еще одного, из тысяч талантливых, которые так никогда и не проявляются. Это «середнячок», «бездарность» где скачком, где ползком, где потом и упорством, пробьется, талант – уязвим и одинок, он, как правило, пропадает. И только потом, за стаканом водки, смутно вспоминает: мол, было что –то, да не состоялось!
К величайшему моему сожалению, я не знаю, кто это был. И даже предположить не могу! Мы не запомнили ни имени, ни фамилии. А когда я специально пересматривал фотографии педагогов Ленинградской Академической капеллы того времени, его лица так и не нашел…Очень жалко. Он был из тех великих душою людей, на которых и держится Россия. К счастью, таких много. И всю жизнь, будто сменяя друг друга, они были вокруг меня. Иначе, я бы не перенес одного из самых мучительных периодов своей жизни, периода слез, синяков и оскорблений, потому что мы были еще и беззащитными, и нищими, периода, когда меня звали « скрипаченком». (Продолжение следует)
Слово, выкинутое из песни
Мучила меня эта песня. Еще совсем маленьким мальчиком слушал я ее по радио: «Когда я на почте служил ямщиком»… Для меня были загадочными слова «ямщик» и «почта»… Правда, почта в нашем квартале была, там за длинным барьером сидели молодые девушки, принимали заказные письма, выдавали бандероли, посылки и пенсию моей бабушке… Там я покупал открытки, чтобы корявым почерком вывести поздравление с «Восьмым мартом» или «С Первым Маем» . Там пахло особенным «почтовым запахом» – расплавленным сургучом, типографской краской от свежих газет и клейстером.. Это был притягательный мир пестрых марок, открыток, которые можно было сколько угодно рассматривать в витрине под стеклом, пока бабушка заполняла пенсионный бланк.
В день получения пенсии мы покупали два пирожных и несли их домой, чтобы съесть «не по – бурлацки», а с молоком или с чаем. Собственно, два пирожных покупались в расчете на совместное с бабушкой чаепитие, но почему-то всегда получалось, что чай мы пили вместе, а оба пирожных доставались мне. Разумеется, после того как они бывали съедены, я огорчался своим эгоизмом, и тем ,что не успевал заметить в какой именно момент кончалась мое буше или картошка, или корзиночка и начиналась бабушкина…
Но несмотря на это мелкое огорчение, посещение почты было для меня праздником. Оно и до сих пор волнует меня ожиданием новостей, нетерпением при открывании бандероли и многим другим, в том числе, по старой памяти, и почтовым запахом.
И все это никак не вязалось с тем жутким событием, о котором пелось в песне… Слова песни приходили мне на ум совершенно неожиданно, когда ледяными февральскими утрами я бежал в школу мимо дымящихся поземкой сугробов…
« А ветер совсем ту находку занес,
Метель так и пляшет над трупом,
Разрыл я сугроб, да и к месту прирос,
Мороз заходил под тулупом …"
Школа была далеко. Слева от дороги стояли, занесенные снегом домишки, там поблескивал желтый огонь в окошках, но справа тянулись бесконечные огороды, а за ними щетинился лес. Ветер гулял на просторе, снежные заструги пересекали накатанное, скользкое полотно шассе. Я перескакивал через них и все боялся наступить ногою на что – то твердое… Я казался себе тем несчастным ямщиком, что нашел на занесенном метелью тракте свою замерзшую невесту. Невольно поскуливая, не то плача, не то напевая, норовил я поскорее проскочить через страшные мертвенно белеющие в утреннем сумраке снежные валы, которые хватали меня за валенки и чернели позади дырами от следов..
Но вот однажды, в тарелке репродуктора голос Ивана Скобцова пропел неизвестные мне строчки пролога:
« Мы пьем-веселимся, а ты нелюдим,
Сидишь как затворник в неволе,
Мы чаркою водки тебя угостим,
А ты, брат, поведай нам горе..»
Мне показалось, что передо мной открылся театральный занавес и далее разыгрывается драма. Но странное ощущение недоговоренности рождала во мне эта песня.
Много позже я нашел объяснение для тогдашних своих сомнений: то, что произошло с ямщиком – катастрофа! Но ведь это трагическая случайность – в ней никто не виноват. В песне же ямщик предстает совершенно разрушенной личностью. Слов нет – то, что с ним стряслось – огромное горе, но все же его недостаточно для полной гибели души человека.
Было и другое… Мне самому поначалу показалась кощунственной моя догадка. А уж так ли любил ямщик эту девушку?
В нашей огромной коммуналке жил старшина, у которого в войну в блокадном Ленинграде погибла вся семья. Он только однажды, кажется в День Победы, выпив, рассказал нам об этом… В его рассказе были подробности похлеще, чем в рассказе ямщика. Там тоже были и метель и снег, и еще трупы на обочинах, и санки, на которых он вез жену и двоих ребятишек через весь город хоронить на Пискаревском кладбище.
Я попытался представить, как этот человек, говоривший о своих близких как о святых мучениках, сказал бы о своей любви словами ямщика:
И крепко же, братцы, в селенье родном,
Любил я в ту пору девчонку.
Сначала я в девке не чуял беду,
Потом задурил не на шутку…
– и представить не смог!
Рано утром я дождался, когда старшина выйдет из своей пятиметровой комнатушки ,чтобы выскоблить щеки опасной бритвой, над эмалированным умывальником и станет на лестничной площадке доводить до блеска скрипучие хромовые сапоги и приступил к нему с вопросом.
Он выслушал меня, задумчиво крутя в руках жестяную коробочку с гуталином.
– Не похоже, чтоб любил, – наконец произнес он. – Точно.
– А что же он так переживает?
– Вопрос! – крякнул старшина – Стало быть, есть причины.
– Он же не виноват, что она замерзла.
– Вопрос! – сказал старшина, заправляя белоснежную бязевую рубаку без воротника в суконные галифе, и спросил – ни к селу, ни к городу: – Ты с какого года?
– Сорок четвертого.
– Да? – сказал он, думая о чем – то своем. – Совсем большой! Совсем.
Недели через две он позвал меня в свою комнатушку, где только и помещались узкая железная кровать под тонким колючим одеялом, тумбочка и табуретка. На стене висел, укутанный простыней, парадный мундир с медалями…
– Садись! – сказал старшина и азартно потер руки. – Я твои сомнения библиотекарше нашей доложил. И вот ведь какая ситуация возникает! Виноват ямщик-то! Кругом – виноват! Такая вина – хоть в петлю!
Он вытащил из тумбочки тоненькую книжицу и раскрыл на заложенном месте
– Эн,Эн, Трефолев. Стихотворения. – прочитал он, бережно держа книжку в большой красной руке, – Вишь, как тут складывается! Крики то о помощи он услышал, когда с пакетом скакал – туда! Не обратно, а туда! Вот гляди, стало быть.
Средь посвистов бури услышал я стон,
И кто-то о помощи просит.
И снежными хлопьями с разных сторон ,
Кого-то в сугробах заносит.
Коня понукаю, чтоб ехать спасти;
Но, вспомнив смотрителя, трушу.
Мне кто-то шепнул: на обратном пути
Спасешь христианскую душу!
– Видал, что делает! – сказал старшина и так заерзал на своей койке, что она вся застонала: – Шепнул ему кто-то! Едри его мать… – он осекся, покосившись на меня.
Мне сделалось страшно. Едва я дышал.
Дрожали от ужаса руки.
Я в рог затрубил, чтобы он заглушал
Предсмертные, слабые звуки.
– Видал как! Вот он и пьет! – и тяжело вздохнув, добавил – Конечно, ему с донесением останавливаться устав не велит, но ведь устав уставом, а и совесть иметь надо! Эх… Прямо ты меня с этой песней разволновал… С детства ее знаю, а, вишь ты, какие в ней слова имеются. Самые то есть главные.
– А что же их не поют? – спросил я – А еще говорят: из песни слова не выкинешь…
– Должно от жалости. – сказал старшина – Жалеют его, сукиного сына, вот и не поют. У нас жалеть любят… Давай что ли чаю выпьем ?
И уже напившись чаю , он осторожно погладил меня по стриженной голове:
– Совсем ты большой стал. Совсем
Иногда я слышал, как по утрам, начищая сапоги, он сипловато напевал «Ямщика» со всеми словами, следуя тексту Трефолева.
Но мои сомнения на этом не кончились. С годами меня стал мучить другой вопрос: что это за рожок, в который, словно кучер английского дилижанса, трубит ямщик?
Есть и еще одна странная строка: «Потом соскочил с удалого коня..». Что это за ямщик такой, который скачет верхом? Это либо не ямщик, а вестовой, нарочный, гонец, казак летучей почты, либо почтальон, но тогда дело происходит не в России! Поскольку у нас почту развозили на почтовых тройках!