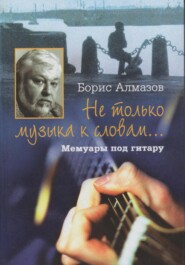скачать книгу бесплатно
Узнай родимый край и вся моя семья
Как жжет и бьет врага стальная наша вьюга
Как волю мы несем в родимые края!»
И это тоже песня моего детства! Тем более, что первый салют в честь победы на Курской дуге прозвучал ровно за год до моего рождения – 5 августа 1943 года, но это другая история.
Я увидел лошадь первый раз
Как это было – я не помню, потому что был мне от роду год. У казаков, из которых наша семья происходит, есть такой обычай: когда мальчишке исполняется год, его сажают в седло. И со мной так было. Друг моего деда (они еще в первую мировую вместе служили) привел лошадь и посадил меня, а все соседи, родственники и знакомые смотрели, что я буду делать. Мне потом не раз в подробностях все это рассказывала бабушка, потому что я не заревел, а уцепился изо всех сил за гриву, что считалось хорошей приметой. Вторая встреча произошла лет пять спустя и могла вообще отбить у меня охоту подходить к лошади. Я попал в колхозную кузницу, где подковывали старую рабочую конягу. Лошадь была привязана в специальном станке, чтобы не могла ударить кузнеца.
Кузнец Алексей Касьяныч, глухой после фронтовой контузии, подмигивая мне и улыбаясь, длинными щипцами выхватил из огня раскаленную докрасна полоску железа и резкими ударами молотка стал делать из нее подкову.
Хозяин лошади поочередно поднимал ей ноги и специальным ножом с острым лезвием зачищал копыта, чтобы на каждом было что-то вроде клина, похожего на римское V. Лошадь нервно переступала, трясла всей кожей, и хозяин кричал на нее страшным голосом. Новую подкову специальными четырехгранными гвоздями – «ухналями» – приколотили к самому краю копыта, чтобы животному было не больно. Но лошадь все равно боялась и нервно пофыркивала. Еще бы не бояться: молот стучит, в горне огонь полыхает, и черный кузнец что-то там делает с твоим копытом, зажав его между колен!
Я далеко стоял, меня не подковывали, и то было страшновато. Поэтому лошадь мне стало жалко. Когда ее, мокрую от пота, вывели из кузницы, привязали к телеге, где был насыпан ячмень с овсом, и она стала жадно им хрупать, я подошел к ней, благо возница увел ковать вторую лошадь, и тихонько погладил по задней ноге и животу – выше я достать не мог. И тут лошадь ударила меня новенькой подковой! Прямо в грудь! Когда я вырос, то понял, что лошадь была старая, умная и только тихо оттолкнула меня. Ударь она как следует, мне бы не писать этой книги. Но тогда я задохнулся от боли и от обиды. Отлежавшись в траве, наплевавшись вдоволь розовой слюной, я пошел домой, дав себе слово никогда не подходить к этому неблагодарному «зверю». Но слово это я скоро нарушил.
Зиму мы жили в Ленинграде, а весной опять двинулись на Дон. Было трудное послевоенное время: вокзалы набиты людьми, попасть на поезд – подвиг. И вот после толкотни, истерик в толпе, давки и духоты в вагонах мы выходили на тихой станции. И дед Хрисанф, тот, что сажал меня на коня, отдавал нам честь, приложив левую руку к козырьку казачьей фуражки. Правой руки у него не было – оторвало в гражданскую, поэтому казалось, что дед все время ходит боком.
Скрипела телега. Под впечатлением того, что мы приехали из Ленинграда, дедушка запевал: «Как в столице Петербурге, в Зимнем каменном дворце. там при каждом при покое караул донцы несуть..” Я очень люблю эту песню. Дед ее замечательно пел и еще свистел в конце каждого куплета, а мама, сняв платок, подпевала ему низким голосом, каким никогда не пела в городе. Она делалась сразу красивее, и даже седина ей шла. Так изморозь не портит степную траву. «…И-и-их, да там при каждом при покое стоять казаки на часах…» – выводил дед умопомрачительной сложности мелодию. А дальше рассказывалось, как «царица Катерина выходила погулять», как она увидела «молодого кавалера при дворцовых при дверях». И был он такой бравый и красивый и так стоял – не шелохнувшись, – что царица остановилась и спросила: «Из какого, казак, войска? Из станицы из какой?» Но казак устав помнил твердо. «Ничего ей не ответил. потому как службу знал, ничего ей не ответил, даже глазом не сморгнул». И тогда царица, тоже, вероятно, вспомнив устав караульной службы, «положила к его ногам медаль»…Дед пел, а мне казалось, что это он про себя, что он—молодой, статный конвоец в красном чекмене, в белой мохнатой папахе —стоит в роскошной дворцовой зале…
Вокруг нас медленно поворачивалась весенняя степь. Сочная, до синевы с белым налетом. трава исполосована ярко-алыми маковыми реками. Они, как сказочные дороги, убегали за горизонт, а там уже показывался багрово-оранжевый край солнца.
И вдруг в это весеннее великолепие из-за холма вылетели два коня. Один – снежно-белый. второй – гнедой. На них не было никакой сбруи, они шли широким галопом, алые маки взлетали красным облаком из-под копыт и плавно кружились на фоне ослепительного синего неба. И меня охватило такое ощущение свободы и счастья, что я тоже запел во всю силу голосовых связок. И уже тогда я почувствовал, что никогда не забыть мне ни этих коней, ни этой степи, ни всей нашей прекрасной земли. .. А кони все скакали, скакали, словно уплывали в мои сны. ..
Прости меня!
Настоящего голода, какой переживала моя мама на Ленинградском фронте, а бабушка в блокаду, я не помню, но голодные времена застал. После войны в Ленинграде мы перемогались, получая хлеб по карточкам, и всё мечтали: вот приедем на Дон…
Возвращаясь после многочасовых стояний в очередях за мукой, которую только начали продавать, после давки, духоты, истерических слухов: «Кончилось! Больше давать не будут!», мы приносили домой три пакета – бабушкин, мамин и мой, и вот тут начинались воспоминания о каких-то сказочных временах, о невиданных урожаях и пышных казачьих калачах. Мне эти рассказы казались фантастическими, как легенда, про золотые яблоки! Разве могут быть яблоки из золота? Но я мечтал. Мечтал и надеялся!
И, наконец, мы поехали туда – в голубые степи, в края ковылей и маков, прозрачных рассветов, пшеничных караваев и всех плодов земных! А когда добрались до нашего хутора – тут-то нас голод и настиг!
И всё оказалось неправдой! Степь была не голубой, а пожухлой, удушающее-пыльной. На её иссечённой трещинами голой земле, как спицы, неподвижно стояли пустые колосья, и над всем этим горело тусклое от жары солнце в белесом мареве засухи.
Коровы с выпирающими мослами, лошади, глядящие по-человечьи измученно и покорно… Мужчины, в основном инвалиды, вернувшиеся с войны, с ввалившимися глазницами, обтянутыми потрескавшейся кожей скулами и лихорадочным блеском в глазах. До сих пор я помню их ссутуленные плечи и огоньки бесконечных самокруток, угольками вспыхивающие в чёрных кулаках. Женщины, плоскогрудые, с опущенными руками, с тонкими, горько поджатыми губами и тёмно-коричневыми лицами под низко надвинутыми платками. Ребятишки, молчаливые, пузатые, тихо выискивающие по канавам и у поваленных плетней какие-то съедобные корешки, щавель, постоянно жующие какую-то траву.
Нас спасали два мешка сухарей, накопленные в Ленинграде. Ежедневно утром и вечером оттуда извлекались два сухаря, и бабушка внимательно следила, как я их ем: «Чтобы по-людски, за столом, не торопясь, чистыми руками, обязательно прихлёбывая из миски отвар свекольной ботвы. Не в сладость, а в сытость»
Боже мой, а что же они с мамой ели? Что вообще ели взрослые, если детей кормили лепёшками из лебеды?
И вот однажды, когда я искал с соседским мальчишкой какие-то «каланчики» и ел их на огороде, его сестрёнка, бледная как бумага даже при степном солнце, с белыми косицами, в выгоревшем до белизны платье, явилась среди пустых грядок и позвала меня:
– К вам дяденька на бричке приехал!
И точно. В нашем дворе стояла таратайка, и лошадь дёргала кожей на животе, отгоняя мух. И уже здесь я почувствовал идущий от тележки запах. Я взлетел на крыльцо и наткнулся на целый пласт этого аромата. Он стоял как раз на уровне моего носа. Из сеней запах потащил меня в комнату к бабушкиному комоду – там, во втором ящике, под старенькой простыней, я увидел четыре огромных, душистых, масляно блестевших корочкой, с высокими пористыми боками белых каравая. От их запаха у меня кружилась голова, но впиться в хлеб, разламывать его, кусать – я не посмел. – С великой натугой я закрыл комод.
– Ничо! – доносился из соседней комнаты мужской голос. – По крайности, войны нет – сдюжим!.. А в июле сколь-нибудь соберём! Местами хлеб есть…
– Егорушка, – ахала бабушка. – Да что ж ты к нам, у тебя своих пятеро!
– А у меня ещё есть! Это нам артельный на трудодни зерно выдал, дай бог ему здоровья: и где взял? А я так думаю… – сказал он, поворачиваясь ко мне. – У моих-то отец есть! Вот он, с руками и ногами, а ему кто, сироте, даст?
Это была самая больная струна в моём сердце, и он потянул за неё – этот незнакомый голубоглазый и весь какой-то вылинявший на солнце Егор.
– Всё же вы гости! Из Ленинграда! В родные как-никак места возвернулись, и тут голодовать… Негоже так-то! Это и дедушке твоему от меня благодарность! – Он протянул ко мне руку, и я сжался, как от удара: «Сиротку жалеет! Добренький!» – Бывало, придёт твой дедушка в класс, – гудел Егор, – высмотрит, кто совсем пропадает, да и сунет ему тишком сухарика от своего пайка. Мне сколь разов перепадало. Святой был человек, я с его грамоты пошёл…
Я возненавидел Егора! Меня затрясло от его белозубой улыбки и жалостных глаз. И как я, пятилетний недомерок, сообразил, чем больнее ударить его?!
– А что это у нас в доме так навозом тянет? – «Вот так тебе! – подумал я. – Пришёл, расселся тут. Жалеет. Разговаривает!»
Запах от Егора шёл густой, в нём мешались конский и овечий пот, махорка и духота овечьего закута.
Егор заморгал белыми ресницами, нахлобучил бесформенную папаху и суетливо заторопился.
– И то! И то… – забормотал он. – Спим-то посреди отары… Принюхавши… Вы уж извините… Надо бы сперва в баню… Но я хлебца вам тёплого, из печи чтобы, хотел…
Когда я ел божественно пахнувший ломоть, грыз хрустящую корку, тонул в белопенном мякише, чувствуя щеками его живое тепло, – я не понимал, какой поступок совершил!
И только потом, когда томление сытости стало склеивать мне веки, я удивился, почему это после ухода Егора ни мама, ни бабушка не сказали мне ни слова. Мама сидела, забившись в угол старенького диванчика, а бабушка гремела посудой.
– Это же надо – взрослому человеку… – наконец проронила она, убирая в буфет тарелку с куском, который я не смог одолеть весь, – Стыд – какой!
– Как стыдно! Как стыдно! – Мама поднялась и стала ходить по комнате, ломая пальцы. – Он в степи, под градом и холодом, под молниями и суховеями, круглый год один, среди овец…
– У него своих детишек голодных пятеро, а он тебе первому… Я – плохая бабушка! Я не умею тебя воспитать! – Это была самая страшная фраза.
Через час такой пытки я уже рыдал, понимая весь ужас совершённого мною.
– Что же мне делать? – закричал я, захлёбываясь слезами.
– Сам набедил – сам и поправляй!
– Да как же! Как же я у него прощения попрошу, если он уехал?
– А что ты думал, когда его обижал? Ты же нас всех, нас всех – и дедушку, и папу, и нас с мамой – на всю жизнь опозорил…
– Он недалеко живёт!—обронила мама.—За оврагом, у кладбища.
– Так ведь уже темно! – кричал я, леденея от мысли, что придётся переходить овраг, где и днём-то страшно. – Меня бугай затопчет!
– Бугай давно в сарае спит.
– Меня волки съедят!
– Пусть! – отрезала бабушка. – Пусть лучше моего внука съедят волки, чем будет внук – свинья неблагодарная!
– Он ведь хлеб! Он ведь хлеб тебе привёз, – прошептала мама.
На улице было действительно совсем темно. Всё, что было привычным и незаметным днём, выросло и затаило угрозу: и плетни вдруг поднялись, как зубчатые стены, и белёные стены хат при луне вдруг засветились мертвенно и хищно.
Спотыкаясь и поскуливая, вышел я к оврагу, где темень лежала огромным чернильным пятном. Я пытался зажмуриться, но глаза от страха не закрывались, а норовили выскочить из орбит. Рыдая, опустился я на дорогу, где под остывшим слоем пыли ещё таилось дневное тепло. Домой повернуть было невозможно: «Ты нас всех опозорил!».
– И пусть! – шептал я. – Пусть меня сейчас волк съест, и не будет меня у них!
И я представил, как все по мне плачут. Но картина не получалась, потому что я знал:
вина-то моя не прощённая! И виноват я по уши! «У него своих детишек пятеро голодные сидят, а он тебе хлеб привёз!»
Из темноты вдруг высунулась огромная собачья голова, ткнулась холодным мокрым носом в мой голый, втянутый от страха живот, потом пофырчала мне в ухо и скрылась.
Как во сне поднялся я, перешёл чёрный овраг и, стараясь не смотреть в сторону кладбища, вышел к Егорову куреню. Окна не светились… И тогда я зарыдал в голос, потому что всё было напрасно: Егор спит, а завтра он уедет и никогда не простит меня!
– Кто здесь? – На огороде вдруг осветилась открытая дверь бани.
– Дядя Егор! – закричал я, стараясь удержать нервную икоту. – Это я! – И, совсем сомлев от страха, от стыда, почему-то совершенно замерзая, хотя ночь была жаркой, ткнулся во влажную холщовую рубаху овчара и, заикаясь, просипел: – Дядя Егор! Прости меня!
За всю мою жизнь не испытывал я большего раскаяния, чем в тот момент.
– Божечка мой! – причитал Егор. – Да закоченел весь! Милушка ты моя!
Потом он мыл меня, потом мы шли домой, всё той же бесконечной ночью. И только много лет спустя, мама рассказала мне, как они с бабушкой шли за мною по пятам, обливаясь слезами. Мама несколько раз порывалась подбежать ко мне, больно маленький я был и очень горько плакал, но бабушка её останавливала: «Терпи! Никак нельзя! Сейчас пожалеешь – потом не исправишь…»
Были у нас потом и праздники, и изобильные столы, и весёлые рыбалки с дядей Егором. Были длинные ночные разговоры под чёрным и бездонным небосводом, но навсегда осталось у меня чувство вины перед тем, кто дал мне хлеб…
Перед Егором – Георгием – Земледельцем – так это имя переводится с греческого.
Вот ведь какая символика получается…
Первая премия
То, что я не забыл этот случай, – не удивительно! Это ведь была самая первая награда в моей жизни. Удивительно, что я всё помню до мельчайших подробностей, словно это произошло вчера, а ведь было мне тогда, всего пять лет.
Мы жили на Ржевке – сорок лет назад это была отдалённая и грязная окраина Ленинграда. С одной стороны нашего четырёхэтажного дома – самого высокого дома в округе – тянулся глухой забор военного городка, а с другой, были химические заводы, которые время от времени выпускали такой вонючий и ядовитый жёлтый дым, что не только гулять во дворе не хотелось, но и в нашей огромной коммуналке, где и без химического производства запахов хватало, дышать было нечем.
«Он погибает без воздуха! Он погибает!» – говорила мама моей бабушке. Я не считал, что погибаю, но с удовольствием смотрел, как бабушка надевает панамку, кладёт в сумочку два бутерброда и берёт старый зонтик с костяной ручкой: это означало, что мы с ней отправляемся в замечательные места – в Таврический сад, в Летний или совсем за тридевять земель, в ЦПКиО на целый день!
В парках я копался со своими сверстниками в песочнице, бегал по аллеям, а бабушка, сидя на скамеечке, разговаривала с такими же, как она сама, старушками, в панамках, матерчатых туфлях, длинных юбках и тёплых кофточках.
Иногда мы ходили в молочную столовую, где ели простоквашу из пузатеньких баночек. Простокваша мне нравилась, но я стыдился, что бабушка всегда заворачивала недоеденную мною вафлю или коржик в салфетку и брала с собой – «на потом».
Но больше всего мы любили слушать военные духовые оркестры, что по праздникам и в воскресные дни играли в раковинах открытых эстрад на Елагином острове.
У бабушки в маленькой записной книжечке была выписана программа этих бесплатных концертов на весь месяц, и мы старались не пропустить ни одного.
Мы приезжали на трамвае задолго. Усаживались на длинные белые скамейки с литыми боковинами и гнутыми спинками перед разинутой полусферой эстрады и рассматривали пузатые барабаны, торжественно поблёскивающую латунь и серебро духовых, строгие чёрные футляры, из которых извлекали их музыканты. Сами оркестранты в отутюженных военных мундирах ходили по сцене, двигали пюпитры, перелистывали ноты, негромко разговаривали между собой, иногда пробовали проиграть какую-то фразу из ещё не родившейся музыки…
Но вот выходил деловитый подтянутый капельмейстер, скамейки вспыхивали короткими аплодисментами. Парой чаек взмывали над оркестром его руки в белых перчатках, и сердце моё замирало от восторга.
При звуках вальса бабушка чуть заметно покачивала в такт головой, и было легко представить её молодой красавицей в огромной шляпе с вуалью или совсем юной гимназисткой, кружащейся на серебряных «снегурках» по льду катка. Когда играли марш «Прощание славянки», бабушка всегда плакала, вытирая слезы кружевным платочком, – папа, дядя и дедушка под этот марш уходили на фронт. И не вернулись…
Мне нравились военные марши. Особенно «Памяти „Варяга"»! Их музыка рождала во мне твёрдую уверенность, что вот я вырасту, стану сильным и смелым, как герои «Варяга», и тогда смогу защитить всех! И мама, и бабушка будут мною гордиться!
А когда играли «Сказки венского леса» Штрауса, мне чудились какие-то волшебные рощи с кружевной листвою старых деревьев, пугливые олени с добрыми глазами, кони с лебедиными шеями и стаи прекрасных белых птиц, что плывут над осенними полями в голубой вышине, мне виделись озёра с прозрачной водой, камыш под ветром, сосны на морском берегу… Всё то, чего я ещё никогда не видел! Только слышал про это по радио да рассматривал на картинках в книжках.
Но мне так хотелось туда! Музыка вела меня в ту страну, которая называлась длинно и притягательно: «Когда я вырасту большой!»
И вот однажды, когда мы торопились с бабушкой на концерт оркестра Балтийского флота и очень беспокоились, поглядывая на серое небо – как бы дождик не испортил нам долгожданного праздника, у эстрады мы увидели огромную толпу пионеров. А на сцене вместо обожаемых мною моряков и блеска инструментов стоял стол, накрытый красной скатертью; за ним сидели какие-то тётеньки, а с краю единственный дяденька.
Он был одет в странную куртку не то из брезента, не то из какой-то другой непромокаемой ткани, на голове у него была пупырчатая кепка.
Он сидел, нахохлившись, засунув руки глубоко в карманы коричневых брюк с большими отворотами, и покачивал закинутой на ногу ногой в крепком ботинке с круглым носом.
Дяденька заметно скучал, глядя куда-то вдаль поверх голов бесновавшихся пионеров. Мне кажется, он даже что-то насвистывал, сложив длинные губы трубочкой под щёточкой усов.
Тётенька в чёрном костюме и пионерском галстуке что-то выкрикивала сорванным голосом, и пионеры с воем вздымали руки, трясли ими в нетерпении, вскакивали с мест, топотали ногами… Гвалт стоял ужасный!
Бабушка, крепко держа меня за руку, подошла поближе к эстраде, чтобы спросить, будет ли концерт, и я оказался совсем близко от дяденьки в кепке. Его ботинок качался чуть ли не у меня над головой, были видны все гвозди в подошве.
Дяденька посмотрел на меня с высоты, как на муравья, насупился и надулся. Я понял, что он меня передразнивает: у меня была такая привычка смотреть исподлобья.
Так, чтобы не видела бабушка, я показал ему язык. Дяденька развеселился. Его круглые, чуть отвислые щёки поехали в стороны, и он мне подмигнул. Подмигивать я уже умел и не замедлил с ответом. А ещё я скосил глаза к носу и надул щёки. Дяденька вытащил руки из карманов и показал, что сам так не умеет и что он потрясён моим искусством. Я загордился!
В этот момент тётенька повернулась к нам и, поблёскивая очками, прокричала:
– А теперь назовите три произведения советских писателей о животных!
При этом она выразительно посмотрела на дяденьку, с которым я перемигивался.
Пионеры завыли. Я подумал и тоже поднял руку.
– Думаем! Думаем хорошенько! – поддавала азарта тётенька.
– А вот тут товарищ что-то хочет сказать! – кивнул на меня дяденька.
– Он не первый! Он не первый руку поднял! – заорали пионеры. – Так не честно!
В нашем дворе было много таких мальчишек. Они никогда не принимали меня в свои игры. Дразнили. А при случае и колотили! И вот теперь такие же безжалостные ребята не дают мне показать этому хорошему человеку, что я не лыком шит, что я тоже знаю много книжек, в том числе и про животных!
– Уступим товарищу! – поднял руку дяденька и встал. – Уступим! Он же маленький!
– Я не маленький! – сказал я. – Мне уже почти, что пять лет!
Бабушка смеялась и дёргала меня за руку.
– Извини. Солидный возраст, – сказал дяденька. – Так что же ты нам хотел сказать? Пионеры притихли.
– Я знаю три произведения советских авторов: про золотую рыбку, про золотого петушка и «Сверчок»!