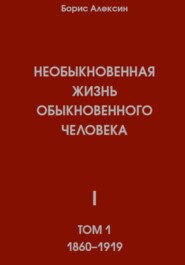 Полная версия
Полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
В довершение всех несчастий последнее время Мария Александровна стала чувствовать какие-то неясные боли в животе, они были несильными, никаких расстройств деятельности желудочно-кишечного тракта не вызывали, но всё-таки беспокоили. Местные врачи Рудянский и Янина Владимировна Стасевич пока ничего серьёзного не нашли, хотя и советовали при возможности съездить в Москву, чтобы там сделать начавшее входить в моду в медицинском мире рентгеновское исследование. Но это стоило дорого, а главное, требовало много времени, и поездка пока откладывалась.
Стасевичи посещали Марию Александровну не очень часто: сын их подрастал, ему уже было восемь лет, и они были поглощены заботами о его воспитании и подготовке к гимназии.
Осенью 1913 года после долгого молчания пришло письмо от Нины. Содержание его было для Марии Александровны неожиданным и немного странным: в этом письме Нина вновь просила мать написать Якову и просить его выслать согласие на развод, и, если он хочет, то забрать Борю. Не понравилось это Марии Александровне, и она немедленно написала ответ. Она, конечно, понимала, что у Нины трудное положение, видимо, Боря чем-то не пришёлся отчиму, да и свой ребёнок появился, и никто не гарантирован от того, что и ещё дети будут, без развода все они окажутся в положении незаконнорожденных, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И Нина была обязана об этом думать. Но ведь и со старшим сыном обращаться как с игрушкой: хочу беру, хочу даю – тоже нельзя.
Мария Александровна очень любила Борю, и потому обращение матери его с ним как с какой-то неодушевлённой вещью глубоко обидело её. В своём довольно-таки суровом письме она писала: «…Ты должна понять, Боря не игрушка, чтобы им бросаться туда и сюда. Если ты не думала его воспитывать до положенного времени, зачем же ты увезла его от меня? Мне больно это писать тебе, моей дочери, но, по-видимому, для Бори было бы гораздо лучше, если бы он поехал к Якову Матвеевичу, я уверена, что там он нашёл бы больше и ласки, и доброжелательности, и понимания, чем в твоей семье.
На моё посредничество между тобой и Яковом Матвеевичем больше не рассчитывай. Я считаю, что в вашем разрыве виновата только ты, и, как мне ни прискорбно это, я должна признать, что я его уважаю, а тебя не могу. Поэтому я не хочу помогать тебе в этих переговорах. Мне просто стыдно сейчас обращаться с таким предложением к нему. Я чувствую, этим я очень могу обидеть такого хорошего (по-моему) человека.
Кстати, ты, вероятно, уже знаешь, у него тоже создана новая семья и уже есть ребёнок, предлагать ему теперь взять Борю, когда он уже примирился с его потерей, по-моему, просто бестактно.
Из твоего письма я поняла, что Боря, видимо, не может ужиться в твоей новой семье и становится тебе и твоему второму мужу в тягость. Я охотно избавлю вас от этой тягости. Я с удовольствием возьму Борю к себе и буду, пока жива, его воспитывать. Мне это доставит только радость, подумайте над этим моим предложением».
Это письмо было прочитано не только Ниной, но и её мужем, и он, узнав о содержании её письма, посланного матери, возмутился. Надо сказать, что Николай Геннадиевич был гораздо более благоразумным и рассудительным, чем его жена. Он прекрасно понял всю некрасивость Нининого поступка и, зная, что в какой-то степени причиной явились его вспыльчивость и несдержанность, дал себе слово относиться к Боре более терпеливо и более ласково, что, как мы знаем из предыдущей главы, ему и удалось. Таким образом, вопрос о Боре больше не поднимался.
Однако Нина, всё-таки обидевшись на мать, почти совсем перестала ей писать. Длительное молчание Нины беспокоило и волновало Марию Александровну, и она пыталась связаться с ней через сына Митю. Больше всего беспокоило её положение Бори: ей почему-то казалось, что с ним что-то случилось, а Нина не хочет ей об этом сообщить.
Вот выдержки из некоторых писем Марии Александровны к сыну, написанных в начале 1914 года.
От 5 января 1914 г.
«…Что-то Нина ничего мне не пишет уж очень давно. Перед праздником я послала Боре книжки и пять руб. детям на гостинцы, но она ничего не отвечает. Не знаю, как её здоровье, как дети, здоров ли Боря мой милый?..»
От 16 марта 1914 г.
«…Но главное, отчего ни слова не упоминаешь о Нине, хотя я очень просила написать что-нибудь о ней, так как она перестала отвечать на мои письма. Получается впечатление, что у неё что-нибудь случилось, что от меня скрывают, чтобы не огорчить. Не умер ли Боря?.. Очень прошу тебя на этот раз, не пожалей несколько копеек на телеграмму и уведомь, что делается у Нины…»
От 30 марта 1914 г.
«…Телеграмму о Нине мне не посылай, так как на следующий день я получила наконец письмо от неё самой, которое меня успокоило, а то мне уж начало представляться, что Боря умер, и что потому все избегают писать мне о Нине и её детях, и она сама молчит. Я успела так сильно привязаться к этому ребёнку, что у меня до сих пор сердце щемит при мысли о нём, особенно при мысли о том, в какие руки он попал. <…>
Я тоже хорошо знаю недостатки Нины и боюсь, что её влияние может испортить мальчика. Впрочем, кто знает? Жизнь так изменяет людей, может быть, и Нина кое-чему научилась и изменилась к лучшему. <…>
В письме Нины было вложено письмо мне от Бори, он пишет пером письменными буквами…»
* * *Через несколько месяцев после этих писем началась Первая мировая война. Несмотря на патриотический угар и шумиху, создаваемые правыми элементами страны, основная масса населения была настроена против войны.
Даже такие далёкие от политики люди, как Мария Александровна Пигута, по образу своего мышления стоявшая ближе к монархистам, чем к каким-либо, пусть даже самым умеренным революционерам, и то – к войне относилась весьма неодобрительно.
Вот что она писала Дмитрию Болеславовичу Пигуте 19 декабря 1914 г.:
«Милый мой сын!
Десять лет назад ты был на полях Маньчжурии, шла резня; много было на свете резни после того, а теперь Россия опять ввязывается. Здесь сильное возбуждение, мобилизация в полном ходу, сегодня чуть не разбили казёнку, где торгует Разумова, на улицах сильное возбуждение, проводы, слёзы. Мне-то мало видно в моём уединении, я только слышу рассказы от тех, кто ходит по улицам.
Зачем всё это? Неужели это нужно России? Не думаю!»
Таким образом, даже в таком глухом городке, как Темников, начавшаяся война вызвала сильное возбуждение. А как мы знаем, в больших промышленных городах и столицах это возбуждение перерастало в многотысячные забастовки и даже уличные столкновения между рабочими и ультрапатриотами из «чёрной сотни».
В этот же период времени к неприятностям, вызванным войной и усилившимися опасениями за судьбу своих детей и внуков, у Марии Александровны добавились и другие. Прежде всего с гимназией.
Темниковская женская гимназия к 1914 году сделала уже семь выпусков, её выпускницы славились твёрдыми и хорошо усвоенными знаниями и выходили победительницами на всевозможных экзаменах. Слава об отличной постановке преподавания, о высоком уровне педагогов гимназии распространилась не только по Темниковскому уезду или Тамбовской губернии, но была известна и за их пределами.
Казённая женская гимназия, имевшаяся в губернском городе Тамбове, по качеству своей работы стояла далеко позади. Поэтому Темниковская женская гимназия была бельмом на глазу у окружного инспектора средних учебных заведений по Тамбовской губернии. Кроме того, эта гимназия, содержавшаяся на средства, получаемые от платы за обучение и выделяемые Новосильцевой, имело свои правила, которые были гораздо демократичнее правил казённых гимназий, что позволяло учиться в ней тем, кого в казённую и на порог не пустили бы.
Это вызывало недовольство и губернатора, и других влиятельных лиц. Много раз инспектор учебного округа ставил вопрос о том, чтобы упразднить частную женскую гимназию, имевшуюся в городе Темникове, или в крайнем случае принять её в казну и ввести в ней порядки и правила, существовавшие во всех других казённых учебных заведениях Российской империи. До сих пор этого сделать не удавалось, а в 1914 году удалось. Возможно, Новосильцевой наскучило возиться с этими заведениями, возможно, у неё иссякли денежные средства, но под влиянием настойчивых предложений своих высокопоставленных друзей и знакомых она подала прошение о том, чтобы женская гимназия, ранее субсидировавшаяся ею, была принята на бюджет Министерства просвещения и таким образом стала казённым учебным заведением. Почва для принятия такого прошения была подготовлена, и с нового 1914/1915 учебного года Темниковская женская гимназия стала казённой.
А это значило, что в неё уже не могли попасть дочери сапожников или волостных писарей, тем более рабочих. До сих пор в женской гимназии училось даже несколько человек из детей рабочих единственного в Темникове кирпичного завода.
Более того, чтобы очистить гимназию от всякой скверны, как выразился приехавший из округа ревизор, под предлогом того, что программа гимназии ниже по своему уровню программ казённых учебных заведений такого же порядка, было предложено всем гимназисткам сдать повторные экзамены за тот класс, в котором они учились до этой реформы. То есть каждый учащийся как будто снова поступал в гимназию в тот класс, в который он был переведён весной.
Расчёт был простой: богатые родители смогут нанять репетиторов и за оставшееся до осени время подготовят своих детей, те сдадут экзамены и останутся в гимназии; бедные же, естественно, найти репетиторов не смогут, и их дети на экзаменах провалятся, а следовательно, уйдут из гимназии. Таким образом, вся затея вольнодумствующих Новосильцевой и Пигуты будет уничтожена. На деле, однако, вышло не так.
Группа учителей и прежде всего сама Мария Александровна Пигута, Анна Захаровна Замошникова, Алексей Владимирович Армаш, М. С. Мурачаева и другие совершенно безвозмездно занимались с самыми бедными ученицами и сумели их подготовить так, что замысел окружного начальства с треском провалился. Отсеялось такое незначительное количество учащихся, что о нём было даже смешно говорить.
При реорганизации гимназии было введено и другое новшество: если ранее все преподаватели нанимались по выбору, то есть попечительский совет рассматривал все поданные прошения, сообразовывался с имевшимися отзывами и рекомендациями и выбирал наиболее достойную кандидатуру, имея право и отстранить от работы не справляющегося педагога, теперь учителей нанимал инспектор округа. Он же проверял подготовленность их. Мнения о них гимназического начальства не спрашивал, а действовал по своему усмотрению. Он исходил при этом из принципа не столько определения делового качества педагога, сколько его благонадежности. Вот как характеризует одного из таких педагогов Мария Александровна Пигута в письме сыну:
«…вместо брата О. И. Сперанской прислали какую-то «полноправную» преподавательницу с университетским значком на груди, которая уже успела себя зарекомендовать с самой плохой стороны – вроде профессора Удинова!
<…> Уроки её я посещала, чтобы составить понятие о её преподавании, впечатление получается очень неутешительное. Сперва она даже не брала с собой в класс учебных пособий, пока её не заставила делать это председатель педсовета…»
Было проведено и третье мероприятие: распущен попечительский совет, из старых членов его остались только Новосильцева, которая в сущности на нём последнее время никогда не присутствовала и стала как бы почётным его членом, и М. А. Пигута, которую вывести уже никак было нельзя. Зато вывели всех более или менее либерально настроенных гласных городской думы, представителей местной интеллигенции и прежде всего И. А. Стасевича (как лицо неправославного вероисповедания).
Создали новый педагогический совет, и если раньше естественным его председателем в женской гимназии была начальница гимназии, то теперь председателем его был назначен директор мужской гимназии, уже известный нам А. П. Чикунский. Вместо А. З. Замошниковой инспектрисой гимназии вновь была назначена Чикунская.
Одновременно с этими мероприятиями округ прислал ревизора для проверки финансовой и хозяйственной деятельности гимназии. Последнее было сделано с определенным расчётом: вскрыть какие-либо злоупотребления, обвинить в них М. А. Пигуту и таким образом избавиться и от неё.
Всё это тяжело отразилось на состоянии Марии Александровны, ей пришлось много работать вечерами, у неё заболели глаза, видимо, очки требовали замены, а взять их в Темникове было негде. Вновь стали повторяться и боли в животе, но самое главное, её угнетали эти реформы, сведшие в несколько месяцев на нет всё, что она с таким трудом и старанием создавала.
Она писала в это время сыну: «В заключение явился помощник попечителя и три дня ревизовал гимназию. Придраться было решительно не к чему и, по-видимому, он даже остался доволен ходом дела, но… автономия наша тю-тю!.. Новое начальство наше старается быть мягким, но бывает у нас почти каждый день и всюду суёт нос, к чему мы не приучены…»
Как мы уже говорили, все эти неприятности не могли не отразиться на здоровье Марии Александровны, а она к тому же ещё и лечиться очень не любила, и прибегала к услугам местных эскулапов в самом крайнем случае, стараясь обойтись своими домашними средствами.
Да и трудно было в то время лечиться. Ведь врач никакого освобождения от работы дать не мог, и если советовал не работать, то подразумевал, что у пациента есть достаточно средств для существования и без работы.
У Марии Александровны Пигуты, кроме её жалования, никаких других источников дохода не имелось, лет ей было уже около шестидесяти, и болеть так, чтобы не работать, она просто не имела права.
Кроме того, местное светило, единственный доктор Рудянский, был настолько перегружен работой, что очень часто, даже не выслушав как следует больного, уже назначал и лечение. Так вышло и с Марией Александровной Пигутой. Он, вообще-то, очень хорошо к ней относившийся, бегло осмотрел её, сказал:
– Ничего серьёзного, попробуйте пить соду…
Обратиться к Янине Стасевич больная не могла, так как последняя вновь отказалась от практики, занявшись воспитанием сына.
К Рудянскому Мария Александровна тоже больше не ходила, лишь продолжала по его рекомендации пить соду. Об этом она писала сыну: «Я, как обычно, чувствую себя недурно, даже могу сказать, что лучше, чем было за последние годы, так как боли, которые приписывали почке, прекратились вследствие лечения содой; замечая, что от соды боль временно стихает, я стала прибегать к порядочным приёмам её по нескольку раз в день, как только начинало болеть. И кончилось тем, что боли появлялись всё реже и реже и теперь почти не возвращаются. Глаза тоже не болят, только устаю скорее прежнего, не могу так много ходить, заниматься умственным трудом, как прежде…»
Осенью Мария Александровна простудилась, у неё был сильный кашель и, как она говорила, оглохла на левое ухо. С этим она обращалась к Стасевич. Выписанные последней порошки и мазь помогли, но в результате болезни старая женщина ещё больше ослабла и едва была в состоянии справляться со своими обязанностями по службе.
Казалось до чрезвычайности странным, что ни сын, ни дочери, которые, по их уверениям, очень любили свою мать, не обратили внимания на её довольно-таки характерные описания заболевания и не приняли никаких мер. Возможно, что это произошло потому, что у всех этот период времени был тоже очень трудным.
В конце ноября 1914 года пришло письмо от Нины, в котором она сообщала, что Николая Геннадиевича взяли в армию, что его часть пока располагается в городе Владимире и, по-видимому, они пробудут там с полгода, что она теперь осталась опять одна с двумя детьми и ожидает в январе третьего.
Нина просила мать приехать к ней на это время, так как она чувствовала себя очень плохо и боялась за исход родов. А в это время Мария Александровна всё ещё была больна. Она сейчас же написала два письма: одно – брату, главному казначею Государственного казначейства, которое размещалось во Владимире, прося его узнать о положении Николая Геннадиевича и, если можно, помочь ему чем-нибудь, а другое – сыну Мите. Между прочим, она писала в нём: «Я получила наконец письмо от Нины, она уведомила меня, что страшно измучена и истощена работой, особенно потому, что ожидает ещё ребёнка в конце января. <…> Мне стало жалко её в её одиночестве, так как Николай Геннадиевич взят в армию в такой критический момент, так как жаль ребят, брошенных на прислугу, что я совсем было собралась поехать к ней дней на десять, да вот заболела…»
Сообщала Мария Александровна сыну и о том, что Нина после родов уедет на работу в Солигаличский уезд, куда ранее был переведён её муж. Закончила письмо она просьбой заменить её и поехать в Плёс, чтобы побыть там, пока Нина будет находиться в больнице. Сама же она обещала навестить всех их летом.
* * *В это время у Елены Болеславовны возникали свои проблемы. Вернувшись в Петербург, сойдясь с Ванечкой, она как будто обрела семейную жизнь. Но это только как будто. На самом деле Ванечка, побыв некоторое время свободным, завёл так много приятельниц и друзей, что просто не знал, как разделить между всеми ними своё время. Он часто не ночевал дома, возвращался пьяный. Происходили бурные ссоры, кончавшиеся уходом Ванечки из дома. Через несколько дней, чаще всего, когда у него кончались деньги, он появлялся вновь, а Елена, видимо, совершенно потеряв голову, безропотно его принимала. Всё начиналось сначала.
Обо всём этом, хотя, может быть, и не совсем подробно, Мария Александровна знала из писем своего брата, вынужденного по долгу службы бывать в Петербурге и обязательно навещавшего Лёлю, а иногда и помогавшего ей деньгами, в которых она постоянной нуждалась.
Брат Марии Александровны, Александр Александрович Шипов, как мы уже говорили, был управляющим Государственным казначейством Российской империи. Пост по тому времени весьма высокий и, как с гордостью говорила Мария Александровна, показывая его подпись (факсимиле) на кредитных билетах, полученный им не какими-нибудь окольными путями или связями в высшем обществе, а исключительно благодаря своим способностям и большому трудолюбию.
Так или иначе в своих письмах Шипов упрекал Лёлю за её неразумное поведение и слепую страсть к беспутному Ванечке, который, по его мнению, и гроша ломаного не стоит. Он советовал сестре принять какие-либо меры. Мария Александровна с горечью читала эти письма, а сделать ничего не могла.
В конце сентября 1914 г. Ванечку взяли в армию. При помощи торговых связей отца его зачислили в один из интендантских отделов, находившихся в Петрограде (так тогда начали называть Петербург), и он надеялся, что война пройдёт не только стороной, но даже и поможет ему улучшить финансовое положение. Находясь в одном из главных интендантских управлений русской армии, Ванечка не столько служил Отечеству, сколько помогал своему папаше провёртывать всякие торговые махинации с интендантством.
В результате этой службы у него вновь стали водиться порядочные деньги, которые он, как и раньше, безудержно транжирил. Обычно, когда Ванечка богател, он под первым же предлогом старался рассориться с Еленой Болеславовной и на свободе как следует покутить. Так было и в этот раз. Устроив в каком-то загородном ресторане грандиозный кутёж, конечно, с цыганами и различными дамами самого сомнительного поведения и положения, он пьянствовал вместе со своим интендантским начальством и несколько дней не появлялся дома. После ссоры, происшедшей по этому поводу с Еленой, он опять ушёл от неё, заявив при этом, что это уже навсегда.
Расстроенная Елена Болеславовна решила съездить к матери, чтобы немного рассеяться и посмотреть на свою дочь, которую она не видела уже около трёх лет.
23 декабря 1914 года совершенно неожиданно она появилась в Темникове. Матери Елена Болеславовна сказала, что у неё с Ванечкой всё кончено, что она приехала в отпуск на две недели и что весной она заберёт Женю к себе, так как решила теперь всю свою жизнь посвятить воспитанию дочери.
Сказано это было с присущей Лёле театральностью в голосе и манерах. А её восторженные ласки к Жене были просто неестественны. Девочка при первом же удобном случае сбежала в детскую, чтобы показать няне Марье новую куклу, привезённую матерью, а Марию Александровну слова дочери хоть и покоробили своей вычурностью, но всё же обрадовали. Она не преминула поделиться своей радостью с сыном: «…Вчера сюда приехала Лёля, – писала она 24 декабря 1914 года, – но только на две недели. Она мне показалась гораздо лучше и разумнее на этот раз, мне кажется, что её угар проходит, и она начинает сознавать, что не устроится семейство с Ванечкой. Это очень важно, чтобы ослепление это соскочило, и тогда явится совершенно другое отношение к жизни и ко всему…»
В Темникове Елена Болеславовна пробыла всего неделю, несмотря ни на что, она тосковала по Ванечке, а он больше не появлялся. Елена хотя и обещала матери, что больше с ним видеться не будет, уже через месяц после приезда в Петроград отправилась в учреждение, где он служил, чтобы навести о нём справки. Там ей бесстрастно сообщили, что её Ваня во время командировки с партией имущества в одну из действующих армий попал под случайный артиллерийский обстрел и был убит.
Получив это известие, Елена была так поражена горем, что заболела и пришла в себя только в больнице, куда её поместили сердобольные соседи по квартире. Через несколько дней она поправилась, но горе это так на неё повлияло, что в свои 37 лет она выглядела старухой. Главное, что её убивало, это то, что в гибели Вани она винила себя. Она писала: «…Ванечка назло мне напросился в эту командировку, если бы я не уехала из Петрограда, я бы удержала его, и он был бы жив… Во всём виновата я одна!..»
Так в этом убеждении и осталась эта несчастная женщина на всю свою жизнь и теперь всю свою любовь перенесла на дочь – его дочь, забывая о том, что он не хотел эту дочь даже видеть.
Глава седьмая
Санитарный врач Пигута все эти годы провёл в бесплодной борьбе с отцами города Медыни, которые игнорировали его и обвиняли его же во всех санитарных беспорядках, имевшихся в городе. Его требования по проведению тех или иных санитарных мероприятий, в том числе и таких, которые предотвращали прямую угрозу жизни и здоровью сотен городских жителей, но вызывали ущемление интересов какого-либо видного горожанина, встречались в штыки.
Вот в таком положении и находился санитарный врач Д. Б. Пигута. Совершенно естественно, что его постоянные стычки с начальством, постоянное возмущение со стороны тех, кого ему удавалось призвать к порядку и наказать, создавали какую-то полосу отчуждения вокруг него и его молодой жены.
У неё по этой причине не создавалось ни круга друзей, ни круга приятелей, и она жила в городе, как в монастыре. И всё-таки она терпела. Поддавшись обаянию слов своего супруга, поверив в правильность и чистоту его идей и поведения, она гордилась им и поддерживала его. Со всем пылом своей юной души она отдалась ведению своего собственного хозяйства, постоянным заботам о муже и доме.
Жалование Дмитрий Болеславович получал небольшое, но, во всяком случае, вполне достаточное для того, чтобы при умелом хозяйствовании жить если не в роскоши (когда это врачи в роскоши жили?), то всё-таки вполне обеспеченно. Но…
«Митя был очень щедр по отношению к своим родным, – писала Анюта Пигута своим родителям. – То он посылал деньги сестре Лёле, которая от них не отказывалась, а часто ещё и сама просила о помощи, то он посылал деньги другой сестре Нине, которая в письмах от них всегда отказывалась, но никогда посланных не возвращала, то он посылал деньги своей матери, которая получала гораздо больше его и, конечно, в его 10–15 рублях не нуждалась».
Единственный человек из этого семейства, кому не помогал Митя, – это отец, и он, пожалуй, был также единственным, кто хоть изредка сам помогал семье сына. Все эти рубли, пятёрки и десятки, так бездумно рассылаемые Митей родственникам, им самим очень бы пригодились. Говорила об этом Анюта и мужу, а тот, чтобы не волновать её, стал посылать деньги тайком. Раз за разом этот обман открывался и, обижая её, в то же время вызывал у Анюты озлобление по отношению к родственникам мужа.
Таким образом, вместо того чтобы сблизить жену с матерью и сёстрами, Дмитрий Болеславович своими неразумными действиями невольно отдалял их друг от друга. Постепенно, боясь, что в их письмах может опять проскользнуть какое-либо упоминание о полученных от него деньгах, он приучил всех их писать ему не домой, а на работу или даже просто на почту с пометкой «до востребования».
Анюта всё равно находила эти письма. То, что родственники мужа не пишут ему домой, она расценивала как нежелание их знаться с нею. Это возбуждало в ней ещё большее возмущение и обиду на них, в то же время усиливало её недоверие и к мужу.
Обижало Анюту, что ни свекровь, ни сёстры Дмитрия никогда не прислали ни строчки лично ей, не прислали пусть самого дешёвенького подарка к празднику и даже в своих письмах к её мужу почти не вспоминали о ней.



